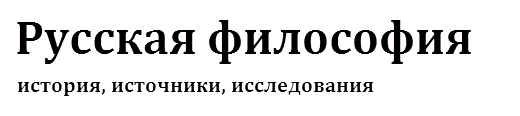Михаил Бакунин
КНУТО-ГЕРМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Лион, 29 сентября 1870 г.
Дорогой друг!
Мне не хочется уезжать из Лиона, не поговорив с тобой на прощанье. Осторожность не позволяет мне еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего здесь делать. Я приехал в Лион для того, чтобы сражаться или умереть с вами. Меня привела сюда непоколебимая уверенность, что дело Франции вновь стало делом человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы величайшим несчастием с точки зрения свободы и человеческого прогресса, какое только может постигнуть Европу и весь мир.
Я принял участие во вчерашних событиях и поставил свое имя под резолюциями Центрального комитета спасения Франции, потому что для меня очевидно, что после полного и реального разрушения всей административной и правительственной машины вашей страны для спасения Франции не остается иного пути, как восстание, стихийная, немедленная и революционная организация и федерация коммун, вне всякой официальной опеки и руководства.
Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, состоящие большею частью из буржуа или из рабочих, обращенных в буржуа, людей косных, неумных, неэнергичных и неискренних; все эти прокуроры республики, эти префекты и субпрефекты, а в особенности чрезвычайные комиссары, имеющие неограниченные военные и гражданские полномочия, комиссары, которых немыслимая и роковая власть обрубка правительства, заседающего в Туре, только что облекла бессильною диктатурою, — все это годится лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и отдать ее пруссакам.
Вчерашнее движение, если бы оно восторжествовало, — а оно неизбежно бы восторжествовало, если бы генерал Клюзере, слишком желавший угодить всем партиям, не оставил бы так скоро дело народа; движение, которое опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона* и заменило бы его сильным революционным комитетом, сильным потому, что он был бы не фиктивным, а непосредственным и реальным выражением воли народа; это движение, я повторяю, могло бы спасти Лион, а вместе с Лионом и Францию.
Вот уже прошло двадцать пять дней с тех пор, как провозглашена республика, и что же сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего.
Лион — вторая столица Франции и ключ к Югу. Кроме обеспечения своей собственной защиты, он должен, стало быть, выполнить двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж. Он мог и теперь еще может сделать и то и другое. Если поднимется Лион, он непременно увлечет за собою весь Юг Франции. Лион и Марсель станут двумя полюсами грозного революционного национального движения, которое, подняв разом города и деревни, привлечет сотни тысяч сражающихся и противопоставит военной организации сил вторжения все могущество революции.
И каждому, напротив, должно быть ясно, что если Лион попадет в руки пруссаков, то Франция будет безвозвратно потеряна. От Лиона до Марселя они не встретят более препятствий. И что ж тогда? Тогда Франция сделается тем, чем так долго, слишком долго была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом его величества императора Германии. Возможно ли пасть ниже?
Только Лион может избавить Францию от этого падения и постыдной смерти. Но для этого надо, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни одного дня, ни одной минуты. К сожалению, пруссаки не медлят. Они разучились спать: с присущей немцам последовательностью и поразительной точностью они осуществляют свои продуманно составленные планы, и, присоединив к этому древнему качеству своей расы быстроту действий, которая до сих пор считалась свойственной только французским войскам, они решительно продвигаются к самому сердцу Франции, представляя небывалую угрозу. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.
А между тем никогда еще Франция не находилась в таком отчаянном, в таком ужасном положении. Все армии уничтожены. Большая часть военного снаряжения благодаря честности правительства и императорской администрации всегда существовала только на бумаге, а остальное, ввиду их осторожности, было так хорошо спрятано в крепостях Меца и Страсбурга, что, вероятно, скорее послужит пруссакам, чем национальной обороне. А ей во всех уголках Франции недостает сейчас пушек, боеприпасов, ружей, и, что еще хуже, — нет денег, чтобы их купить. Не то чтобы у французской буржуазии был недостаток в деньгах; наоборот, благодаря защищавшим ее законам, которые позволили ей широко эксплуатировать труд пролетариата, карманы ее полны. Но деньги буржуа никоим образом не патриотичны, они явно считают за лучшее эмигрировать и даже быть насильственно реквизированными пруссаками, чем подвергнуться опасности быть призванными помочь спасению отечества. Наконец, что уж тут скажешь, во Франции нет более администрации. Та, которая еще существует и которую правительство Национальной обороны имело преступную слабость сохранить, — это бонапартистский механизм, созданный, чтобы служить особым интересам разбойников Второго Декабря, и, как я уже говорил, способный не организовать, а лишь окончательно предать Францию, отдать ее пруссакам.
Лишенная всего, что составляет могущество государств, Франция — больше не государство. Это — огромная страна, богатая, умная, полная природных сил и ресурсов, но полностью дезорганизованная и при этой ужасающей дезорганизованности вынужденная защищаться против самого губительного нашествия, которому когда-либо подвергалась нация. Что она может противопоставить пруссакам? Ничего, кроме стихийной организации огромного народного восстания — Революции.
Здесь я слышу, как все сторонники сохранения общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеры, адвокаты, все эти эксплуататоры буржуазного республиканизма в желтых перчатках и даже изрядная часть так называемых представителей народа, вроде вашего гражданина Бриалу, предателей народного дела, которых жалкое тщеславие, возникшее вчера, сегодня толкает в лагерь буржуа,— я слышу, как они восклицают:
«Революция! О чем вы думаете, ведь это было бы верхом несчастия для Франции! Это было бы внутренним раздором, гражданской войной в присутствии неприятеля, стремящегося подавить и уничтожить нас! Самое полное доверие правительству Национальной обороны; самое беспрекословное повиновение военным и гражданским чиновникам, которых оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных убеждений, между всеми классами и партиями — вот единственный путь спасения Франции».
Доверие порождает единение, а единение создает силу — вот истина, которую, конечно, никто не вздумает отрицать. Но, чтобы это стало истиной, необходимы две вещи: надо, чтобы доверие не дошло до глупости и чтобы единение, одинаково искреннее у всех сторон, не было иллюзией, ложью или лицемерным использованием одной партии в отношении другой. Надо, чтобы все объединяющиеся партии, полностью забыв — конечно, не навсегда, а на время их союза — свои особые и заведомо противоположные интересы, те интересы и цели, которые в обычное время их разделяют, были одинаково поглощены достижением общей цели. Что же получится в противном случае? Партия искренняя неизбежно сделается жертвою партии менее искренней или вовсе неискренней; это произойдет не во имя торжества общего дела, а в ущерб ему и исключительно в интересах той партии, которая лицемерно использует этот союз в своих целях.
Чтобы союз был реальным и возможным, не надо ли, по крайней мере, чтобы цель, во имя которой партии должны объединиться, была единой? Разве так обстоит дело сегодня? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят совершенно одного и того же? Вовсе нет.
Французские рабочие хотят спасти Францию любой ценой, пусть даже для ее спасения пришлось бы превратить ее в пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого сердцу буржуа: поместья, капиталы, промышленность и торговлю, одним словом, всю страну превратить в огромную могилу, чтобы похоронить в ней пруссаков. Они хотят смертного боя, варварской войны с ножом в руках, если понадобится. Не имея никаких материальных благ, которыми они могли бы пожертвовать, они отдают свою жизнь. Многие из них, а именно большая часть тех, кто состоит членами Международного товарищества рабочих, вполне сознают высокую миссию, которая в настоящее время выпала на долю французского пролетариата. Они знают, что если Франция падет, то в Европе дело всего человечества можно считать проигранным по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но и перед всем миром. Эти идеи свойственны, конечно, только самой передовой части рабочих, но все без исключения рабочие Франции инстинктивно понимают, что если их страна попадет под иго пруссаков, то все их надежды на будущее рухнут. И они готовы скорее умереть, чем обречь своих детей на жалкое рабское существование. Поэтому они хотят во что бы то ни стало, любой ценой спасти Францию.
Буржуазия, или по крайней мере огромное большинство этого почтенного класса, желает как раз обратного. Для нее важнее всего сохранение во что бы то ни стало своих домов, имений и капиталов; для нее важна не столько целостность национальной территории, сколько целостность ее карманов, наполненных трудом пролетариата, эксплуатируемого ею под охраной государственных законов. Поэтому в глубине души, не смея сознаться в этом публично, она желает мира любой ценой, пусть даже ценою упадка и порабощения Франции.
Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют цели не только различные, но совершенно противоположные, то каким чудом мог бы возникнуть между ними реальный и искренний союз? Ясно, что это столь усиленно проповедуемое и восхваляемое примирение всегда будет лишь ложью. Ложь убила Францию, так можно ли надеяться, что ложь вернет ее к жизни? Сколько бы ни осуждали раскол, от этого он не перестанет существовать фактически, а раз он существует, раз в силу самих обстоятельств он должен существовать, то было бы ребячеством, скажу больше, было бы преступлением, с точки зрения спасения Франции, игнорировать, отрицать, не признавать открыто его существования. А поскольку спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, оставьте все свои личные интересы, притязания и разногласия; забудьте все партийные разногласия и, насколько это возможно, пожертвуйте ими; но во имя этого же спасения остерегайтесь всяких иллюзий, ибо при нынешнем положении иллюзии смертельны! Ищите союза только с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как и вы сами, хочет спасти Францию любой ценою.
Когда люди идут навстречу большой опасности, не лучше ли идти в небольшом числе, с полной уверенностью, что вас не покинут в разгар борьбы, чем тащить с собою толпу неверных союзников, которые предадут вас в первом же бою?
К дисциплине и к доверию относится все то, что и к союзу. Сами по себе это прекрасные вещи, но когда они относятся к тем, кто их не заслуживает, они становятся пагубными. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что с недоверием отношусь к тем, у кого слово «дисциплина» постоянно на языке. Оно особенно опасно во Франции, где дисциплина большею частью означает деспотизм, с одной стороны, и автоматизм, с другой. Во Франции мистический культ власти, любовь к господству и привычка к подчинению уничтожили как в обществе, так и в огромном большинстве индивидов всякое чувство свободы, всякую веру в стихийный и жизнедеятельный строй, создать который может только свобода. Заговорите с ними о свободе, и они тотчас же станут кричать об анархии, поскольку им кажется, что как только эта давящая и насильственная дисциплина государства перестанет действовать, общество разорвет себя на куски и рухнет. В этом — секрет того поразительного состояния рабства, которое французское общество терпит с тех пор, как оно совершило свою великую революцию. Робеспьер и якобинцы завещали ему культ государственной дисциплины. Этим культом до мозга костей пропитаны все ваши буржуазные республиканцы, официальные и официозные; он-то и губит сейчас Францию. Он губит ее, парализуя единственный источник и единственное остающееся у нее средство освобождения — свободное развитие народных сил, и заставляя ее искать спасения в авторитете и иллюзорной активности государства, выдвигающего сегодня лишь тщетные деспотические требования при полной беспомощности.
Хотя я и враг всего того, что во Франции называют дисциплиной, тем не менее я признаю все-таки, что известная дисциплина, не автоматическая, а добровольная и разумная, в полном согласии со свободой индивидов, остается и всегда будет необходимой во всех случаях, когда множество свободно объединившихся индивидов займется какой-либо работой или предпримет какое-либо совместное действие. Тогда эта дисциплина есть не что иное, как добровольная и разумная согласованность всех индивидуальных усилий, направленных к общей цели. Во время деятельности, в пылу борьбы роли распределяются естественным образом в зависимости от способностей каждого, которые определяются и оцениваются всем коллективом: одни управляют и отдают приказания, другие их исполняют. Но никакая функция не застывает, не закрепляется и не обращается в неотъемлемую принадлежность какой-нибудь личности. Иерархии ранга и продвижения не существует, так что вчерашний руководитель может сегодня стать подчиненным. Никто не поднимается выше других, а если и поднимается, то только для того, чтобы в следующий момент вновь опуститься, как волны моря, к благотворному уровню равенства.
При такой системе больше нет собственно власти. Власть основывается на коллективе и становится откровенным выражением свободы каждого, истинным и верным воплощением воли всех. При этом каждый повинуется только потому, что тот, кто руководит им в данный момент, приказывает ему то, чего он и сам хочет.
Вот истинно гуманная дисциплина, необходимая для организации свободы. Не такова дисциплина, проповедуемая вашими государственными людьми — республиканцами. Они хотят старой французской дисциплины, автоматической, рутинной и слепой. Руководитель, не избранный свободно и только на один день, а навязанный государством надолго, если не навсегда, приказывает — и ему надо повиноваться. Только такой ценою, говорят они вам, можно добиться спасения и даже свободы Франции. Пассивное повиновение, основа всякого деспотизма, будет, следовательно, также и краеугольным камнем, который вы хотите положить в основание вашей новой республики.
Но если тот, кто мной командует, прикажет обратить оружие против этой самой республики или отдать Францию пруссакам, должен ли я ему повиноваться; да или нет? Если я ему повинуюсь, то изменяю Франции; а если ослушаюсь, то нарушу эту дисциплину, которую вы хотите мне навязать как единственное средство спасения Франции. И не говорите мне, что дилемма, которую я предлагаю вам решить,— праздная. Нет, это животрепещущий вопрос, и именно он стоит в настоящее время перед вашими солдатами. Кто не знает, что их командование, генералы и подавляющее большинство высших офицеров душой и телом преданы императорскому режиму? Кто не видит, что они всюду, не скрываясь, плетут заговоры против республики? Что же должны делать солдаты? Если они подчинятся, то предадут Францию, а если ослушаются, то уничтожат остатки ваших регулярных войск. Для республиканцев, сторонников государства, общественного порядка и безусловной дисциплины, эта дилемма неразрешима. Для нас, социалистических революционеров, она не представляет никакой трудности. Да, солдаты должны выйти из повиновения, должны взбунтоваться, должны сломать эту дисциплину и разрушить теперешнюю организацию регулярных войск. Во имя спасения Франции они должны уничтожить этот призрак государства, неспособного к добру и чинящего зло, потому что спасти Францию может сейчас только одна оставшаяся реальная сила — революция.
Что же сказать теперь о том доверии, которое рекомендуется вам в настоящее время как высшая добродетель республиканцев? Прежде, когда люди в самом деле были республиканцами, демократии рекомендовалось недоверие. Впрочем, ей не надо было даже и советовать этого: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также в силу своего исторического опыта, поскольку во все времена демократия была жертвою обмана всех честолюбцев и интриганов — классов и отдельных лиц, — которые под предлогом руководства ею и доведения до благополучного конца всегда ее эксплуатировали и обманывали. До сих пор она служила лишь трамплином.
Теперь господа республиканцы из буржуазной прессы советуют ей быть доверчивой. Но к кому и в чем? Кто они такие, чтобы сметь призывать к доверию, и что они сделали, чтобы самим заслужить его? Они писали очень бледные фразы республиканского содержания, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом, по столько-то за строчку. А сколько среди них маленьких будущих Оливье? Что общего между ними, этими корыстными и раболепными защитниками интересов имущего, эксплуатирующего класса, и пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания того рабочего мира, к которому они смеют презрительно обращаться с выговорами и советами? Сочувствовали ли они, по крайней мере, этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права трудящихся против буржуазной эксплуатации? Наоборот, всякий раз, как вставал основной вопрос века, вопрос экономический, они становились поборниками буржуазной доктрины, которая обрекает пролетариат на вечную нищету и вечное рабство ради свободы и материального благополучия привилегированного меньшинства.
Вот каковы люди, которые считают себя вправе рекомендовать народу оказать доверие. Но посмотрим, кто же заслужил и заслуживает в настоящее время доверия?
Не буржуазия ли? Но, не говоря уж о той реакционной ярости, которую этот класс выказал в июне 1848 года, и об угодливой и рабской низости, какую она проявляла в течение двадцати лет, как в годы президентства, так и во время империи Наполеона III; не говоря о безжалостной эксплуатации, когда в ее карман поступает весь результат работы народа, а несчастным наемным работникам остается лишь самое необходимое; не говоря о ненасытной алчности, об ужасном и несправедливом корыстолюбии, которые, основывая процветание буржуазного класса на нищете и экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа, — посмотрим, какое же право в настоящее время может иметь буржуазия на доверие народа.
Изменили ли ее вдруг несчастья Франции? Может быть, она сделалась искренне патриотичной, республиканской, демократичной, народной и революционной? Быть может, она продемонстрировала намерение дружно подняться и отдать жизнь и кошелек ради спасения Фракции? Быть может, она раскаялась в прежнем беззаконии, в прошлых и недавних низких изменах, быть может, она имеет искреннее намерение, полностью доверяя народу, броситься в его объятия? Быть может, она всей душой стремится встать во главе народа, чтобы спасти страну?
Не правда ли, мой друг, достаточно поставить эти вопросы, чтобы все, при виде того, что сейчас происходит, были вынуждены ответить отрицательно. Увы! Буржуазия не изменилась, не исправилась и не раскаялась. Сегодня, как и вчера, и даже в большей степени, чем раньше, под ослепительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она предстает во всей своей черствости, эгоизме, алчности, узости, глупости, грубости и в то же время низкой угодливости, жестокости, когда ей кажется, что ей ничего не грозит, как в несчастные Июньские дни. Она всегда распростерта ниц перед властью и силой, от которых она ждет своего спасения всегда, и при всех обстоятельствах враждебна народу.
Буржуазия ненавидит народ даже за все то зло, которое она ему причинила; она его ненавидит, потому что в нищете, невежестве и рабстве этого народа видит свой собственный приговор, потому что знает, что она более чем заслужила ненависть народа, и потому что она чувствует, что эта ненависть, становясь с каждым днем все сильнее и непримиримее, угрожает самому ее существованию. Буржуазия ненавидит народ, потому что он ей внушает страх; ее ненависть теперь удвоилась, потому что народ, единственный искренний патриот, которого несчастья Франции вывели из оцепенения, хотя, как и все другие страны мира, она была для него мачехой, осмелился подняться. Он начинает осознавать себя, подсчитывать свои силы, организуется, говорит во весь голос, поет Марсельезу на улицах и своим шумом и угрозами в адрес изменников Франции нарушает общественный порядок, будоражит совесть господ буржуа и лишает их душевного покоя.
Доверие можно завоевать только доверием. Проявила ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Ничего подобного. Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, наоборот, что ее недоверие к народу перешло всякие границы, вплоть до того, что в момент, когда стало совершенно очевидно, что в интересах Франции и ради ее спасения весь народ должен быть вооружен, она не пожелала дать ему оружие. Буржуазия уступила только тогда, когда народ стал угрожать взять его силою. Но, выдав ему ружья, она приложила все возможные усилия, чтобы не дать боеприпасов. Она вынуждена была уступить еще раз, и вот теперь, когда народ вооружен, он стал в глазах буржуазии еще более опасным и ненавистным.
Из ненависти к народу и в страхе перед ним буржуазия не хотела и не хочет республики. Не будем забывать, дорогой друг, что в Марселе, в Лионе, в Париже, во всех больших городах Франции не буржуазия, а народ, рабочие провозгласили республику. В Париже ее провозгласили не малоусердные непримиримые республиканцы из Законодательного корпуса, почти все в настоящее время члены правительства Национальной обороны, а рабочие Ла-Виллетты и Бельвиля, и это было сделано вопреки желанию и ясно выраженным намерениям вчерашних странных республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, все это заставило их потерять интерес к республике. Не будем забывать, что когда 4-го сентября рабочие Бельвиля при встрече приветствовали г-на Гамбетта возгласом: «Да здравствует республика!», он ответил им так: «Да здравствует Франция! — говорю я вам».
Г-н Гамбетта, как и все остальные, совсем не стремился к республике. Революции он желал еще меньше. Нам это известно, впрочем, из всех произнесенных им речей, с тех пор как его имя привлекло к нему всеобщее внимание. Г-н Гамбетта может сколько угодно называть себя государственным человеком, мудрым, умеренным, консервативным, рационалистичным и позитивистским республиканцем*, но он страшится революции. Он хочет управлять народом, но не позволить народу управлять им. Поэтому все усилия г-на Гамбетта и его сторонников из радикального левого крыла Законодательного корпуса свелись 3-го и 4-го сентября к одной цели: во что бы то ни стало предотвратить создание правительства в результате народной революции. В ночь с 3-го на 4-е сентября они приложили невероятные усилия, чтобы заставить правых бонапартистов и министерство Паликао принять проект г-на Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всем радикальным левым крылом, проект, требовавший всего только учреждения правительственной комиссии, легально назначенной Законодательным собранием, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве, и не ставя иного условия, кроме включения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.
* См. его письмо в Progres de Lyon.
Все эти хитроумные замыслы были разрушены народным движением вечером 4-го сентября. Но даже в разгар восстания парижских рабочих, когда народ заполнил зал и трибуны Законодательного собрания, г-н Гамбетта, верный своим антиреволюционным идеям, еще приказывает народу молчать и уважать свободу прений (!), чтобы никто не мог сказать, что правительство, выбранное голосованием Законодательного собрания, было сформировано под сильным давлением народа. Как истинный адвокат, решительный сторонник легальной фикции, г-н Гамбетта, без сомнения, полагал, что правительство, назначенное Законодательным собранием, рожденным императорским обманом и имеющим в своем составе самых отъявленных подлецов Франции, что подобное правительство будет в тысячу раз внушительнее и почтеннее, чем правительство, вызванное к жизни отчаянием и негодованием народа, которого предали. Эта любовь к конституционной лжи так ослепила г-на Гамбетта, что, несмотря на свой ум, он не понял, что все равно никто бы не мог и не хотел поверить в свободу голосования в подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, напуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и презрения, разбежалось, и г-н Гамбетта, оставшись один со своими приверженцами из радикальной левой в зале Законодательного собрания, был вынужден отказаться, правда, с большим нежеланием, от своих мечтаний о власти, приобретенной легальным путем, и страдать от того, что народ передал в руки этой левой революционную власть. Я расскажу сейчас о том ничтожном применении, которое г-н Гамбетта и его сторонники нашли этой власти за четыре недели, истекшие с 4-го сентября, власти, которую дал им народ Парижа с тем, чтобы они подняли на спасительную революцию всю Францию, и которую они употребили до сих пор, наоборот, чтобы парализовать ее повсюду.
В этом отношении Гамбетта и его приверженцы, составляющие правительство Национальной обороны, явились лишь подлинными выразителями мыслей и чувств буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение отечества в результате социальной революции — а в настоящее время не может быть иной революции, кроме социальной, — или его порабощение пруссаками? Если они без опасения смогут высказать свои мысли и решатся быть откровенными, о девять десятых — что я говорю! — девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных ответят вам, не колеблясь, что предпочитают порабощение. Спросите их еще: если бы для спасения Франции потребовалось пожертвовать значительною частью их собственности, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя готовыми принести эту жертву? Или, пользуясь образным выражением г-на Жюля Фавра, действительно ли они полны решимости скорее быть погребенными под руинами своих городов и домов, чем отдать их пруссакам? Они в один голос ответят, что предпочтут выкупить их у пруссаков. Неужели вы думаете, что если бы парижские буржуа не были постоянно на глазах и под угрозой непосредственного воздействия парижских рабочих, Париж оказал бы пруссакам такое мужественное сопротивление?
Не клевещу ли я, однако, на буржуа? Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. Впрочем, в настоящее время существует неопровержимое и очевидное доказательство истинности и справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Злая воля и индифферентность буржуазии слишком ясно выразилась в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны разорены, что нет ни одного су в кассе правительства Национальной обороны, которое господа буржуа как будто бы горячо и ревностно поддерживают. Все понимают, что казна не может быть пополнена обычными средствами — займами и налогами. Неустойчивое правительство не может иметь кредита; что касается дохода от налогов, то он свелся к нулю. Часть Франции, включающая наиболее промышленно развитые и богатые провинции, занята пруссаками и подвергается ими систематическому грабежу. Во всех других местах торговля, промышленность и все деловые операции остановились. Косвенные налоги не дают уже ничего или почти ничего. Прямые налоги платятся с огромными затруднениями и с приводящею в отчаяние медлительностью. И это в тот момент, когда Франции нужны все ее ресурсы и весь кредит, чтобы покрыть чрезвычайные, громадные расходы на национальную оборону. Даже для непосвященных очевидно, что если Франция не найдет немедленно денег, много денег, она не в силах будет более бороться с пруссаками.
Кому, как не буржуазии понять это лучше других, буржуазии, которая всю жизнь занимается деловыми операциями и не признает другой силы, кроме силы денег. Она должна понимать, что раз Франция не может из обычных государственных ресурсов добыть всех денег, необходимых для ее спасения, то она вынуждена, она имеет право и обязана брать их там, где они есть. А где же они есть? Уж, конечно, не в кармане несчастного пролетариата, которому из-за алчности буржуазии едва удается не умереть с голоду; следовательно, они могут находиться только в несгораемых сундуках господ буржуа. Только они имеют деньги, необходимые для спасения Франции. Предложили ли они сразу, добровольно хотя бы малую их толику?
Я еще вернусь, дорогой друг, к этому денежному вопросу, который является главным, когда речь идет об оценке чувств, принципов и патриотизма буржуазии. Общее правило таково: хотите вы точно знать, действительно ли буржуа желает того или иного? Тогда спросите, пожертвует ли он для этого денег: будьте уверены, если буржуа страстно желают чего-нибудь, они не отступят ни перед какими расходами. Разве они не истратили огромные суммы, чтобы убить, задушить республику в 1848 году? А позднее, разве они не голосовали за все налоги и займы, которые требовал от них Наполеон III, и не нашли в своих сундуках баснословные суммы, чтобы подписаться на эти займы? Наконец, предложите им и укажите верный способ восстановить во Франции сильную реакционную монархию, которая возвратила бы им вместе со столь милым их сердцу общественным порядком и спокойствием на улицах экономическое господство, драгоценную привилегию без стыда и совести, законно и постоянно использовать в своих интересах нищету пролетариата, — и вы увидите, поскупятся ли они!
Пообещайте им только, что, как только пруссаки будут изгнаны из Франции, будет восстановлена монархия во главе с Генрихом V, или с герцогом Орлеанским, или с одним из потомков гнусного Бонапарта, и вы убедитесь, что их несгораемые сундуки тотчас же откроются и там найдутся необходимые средства для изгнания пруссаков. Но им обещают республику, царство демократии, власть народа, эмансипацию народной черни, а они ни за что не хотят ни вашей республики, ни этой эмансипации и в доказательство этого держат сундуки на запоре, не жертвуя ни одним су.
Вы лучше меня знаете, дорогой друг, что произошло с этим несчастным займом, объявленным муниципалитетом Лиона для организации защиты города. Сколько было на него подписчиков? Столь мало, что даже те, кто превозносил патриотизм буржуазии, были сконфужены, огорчены и пришли в отчаяние.
И народ еще призывают оказать доверие этой буржуазии! А она настолько нагла и цинична, что сама говорит об этом доверии, я бы даже сказал, требует его. Она намерена одна управлять этой республикой, которую в глубине души ненавидит. Именем республики она пытается восстановить и укрепить свою власть и свое исключительное господство, которые в какой-то момент были поколеблены. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для нескольких отщепенцев из рабочих, довольных тем, что могут восседать рядом с господами буржуа. А на что они употребляют власть, которой они таким образом завладели? Об этом можно судить по деятельности вашего муниципалитета.
Но, могут мне возразить, муниципалитет нельзя трогать, ибо он был образован после революции, непосредственным выбором самого народа, он — результат всеобщего избирательного права. В этом качестве он должен быть для вас священен.
Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, что я решительно не разделяю суеверного благоговения ваших буржуазных радикалов или ваших буржуазных республиканцев перед всеобщим избирательным правом. В следующем письме я постараюсь изложить причины, в силу которых я остаюсь к нему равнодушным. Здесь же ограничусь принципиальной констатацией кажущейся мне бесспорной истины, которую потом мне нетрудно будет доказать как теоретически, так и с помощью множества фактов, взятых из политической жизни стран с демократическими и республиканскими институтами. Вот эта истина: в обществе, где над народом, над трудящейся массой экономически господствует меньшинство, владеющее собственностью и капиталом, как бы ни было или как бы ни казалось свободно и независимо в политическом отношении всеобщее избирательное право, оно может привести только к обманчивым и антидемократическим выборам, совершенно не соответствующим потребностям, побуждениям и действительной воле населения.
Разве все выборы, проведенные непосредственно французским народом со времени декабрьского государственного переворота, не были диаметрально противоположны интересам этого народа, и разве последнее голосование императорского плебисцита не дало семь миллионов «ДА» императору? Без сомнения, нам скажут, что в империи всеобщее избирательное право никогда не осуществлялось свободно, ибо свобода печати, союзов и собраний, это основное условие политической свободы, была запрещена, и народ был отдан на произвол развращенной, продажной прессы и гнусной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 года в Учредительное собрание и президентские выборы, майские выборы 1849 года в Законодательное собрание были, я думаю, абсолютно свободны. Они происходили без всякого давления и даже без официального вмешательства, при всех условиях абсолютной свободы. И, однако, что они дали в результате? Ничего, кроме реакции.
«Одним из первых актов, которым более всего гордилось временное правительство, — говорит Прудон*, — был декрет о введении всеобщего избирательного права. В тот самый день, когда он был обнародован, мы написали буквально те слова, которые тогда можно было счесть за парадокс: «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция». По дальнейшим событиям можно судить, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были проведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, сторонниками династии, вообще теми, кто воплощает во Франции все самое реакционное, ретроградное. Иначе и быть не могло».
* Idee revolutionnaire.
Нет, не могло быть и теперь тоже не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни по-прежнему будет господствовать в организации общества, пока общество будет делиться на два класса, из которых один, привилегированный и эксплуатирующий, будет пользоваться всеми благами богатства, образования и досуга, а на долю другого, включающего в себя всю массу пролетариата, выпадает физический труд, изнуряющий и насильственный, невежество, нищета и их неизбежный спутник — рабство, не юридическое, а фактическое.
Да, рабство, ибо как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, работающих по найму, этим истинным каторжникам голода, вам никогда не удастся оградить их от пагубного влияния, естественного господства всевозможных представителей привилегированного класса, начиная от священника и кончая буржуазным республиканцем, даже самым якобинским, самым красным; представителей, которых при всем их кажущемся различии и действительном разногласии по политическим вопросам объединяет нечто общее, стоящее выше всего этого: эксплуатация нищеты, невежества, политической неопытности и наивной веры пролетариата в интересах экономического господства имущего класса.
Как мог бы городской и сельский пролетариат противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики? Для защиты от нее у него есть только одно оружие — его инстинкт, который почти всегда влечет его к истинному и справедливому, потому что он сам — глазная, если не единственная, жертва несправедливости и всевозможной лжи, которые царят в современном обществе, а также и потому, что, испытывая угнетение со стороны привилегированных, он требует равенства для всех.
Но оружия инстинкта недостаточно, чтобы защитить пролетариат от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт сам по себе, пока он не превратился в основательное сознание, в четкое мышление, можно легко ввести в заблуждение, извратить и обмануть. Но без помощи образования, науки инстинкт не может подняться до сознания, а у пролетариата полностью отсутствуют научные знания, познания в делах и в людях, нет политического опыта. Отсюда нетрудно сделать вывод: пролетариат хочет одного, а ловкие люди, пользуясь его незнанием, вынуждают его делать другое, причем он и не подозревает, что делает как раз противоположное тому, что он хочет, а когда он это, наконец, замечает, обычно бывает слишком поздно, чтобы поправить дело, и первой, и основной жертвой содеянного зла всегда и непременно, конечно же, становится он сам.
Таким-то образом духовенство, знать, крупные собственники и вся бонапартистская администрация, которая благодаря преступной глупости правительства, называющего себя правительством Национальной обороны*, может сегодня спокойно продолжать вести империалистскую пропаганду в деревне; таким-то образом, пользуясь полным невежеством французского крестьянина, эти пособники откровенной реакции стараются поднять его против республики, в пользу пруссаков. И, увы, это им слишком хорошо удается! Разве нам не известны коммуны, которые не только открывают ворота пруссакам, но и выдают им волонтеров, явившихся им на выручку, прогоняют их?
* Не справедливее ли было бы назвать его правительством разорения Франции?
Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Вовсе нет. Я думаю даже, что нигде более патриотизм в самом прямом и узком смысле этого слова не сохранил такой силы и искренности, поскольку крестьяне, больше чем все другие слои населения, привязаны к земле, проникнуты ее культом, что и составляет основу патриотизма. Как же могло случиться, что они не хотят или все еще медлят подняться на защиту этой земли от пруссаков? Да потому, что они были обмануты и их продолжают обманывать. Посредством макиавеллистской пропаганды, начатой в 1848 году легитимистами и орлеанистами вместе с умеренными республиканцами, такими как Жюль Фавр и К°, и успешно продолженной бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, будто рабочие-социалисты — сторонники раздела земли — только и думают о том, как бы отобрать у крестьян землю, что только император хочет и может защитить их от этого грабежа и что из чувства мести революционеры-социалисты отдали его самого и его армию в руки пруссаков, но что прусский король, только что помирившись с императором, вернет его победителем, чтобы восстановить порядок во Франции.
Очень глупо, но это так. Во многих, да что я говорю, в большинстве французских провинций крестьянин совершенно искренне верит во все это. Более того, в этом единственная причина его инертности и враждебности к республике. Это — большое несчастье, так как ясно, что если деревня останется безучастной, если крестьяне в союзе с городскими рабочими не поднимутся всей массой, чтобы изгнать пруссаков, то Франция погибнет. Как бы ни был велик героизм, который мы наблюдаем в городах,— а он действительно повсеместно велик! — города, разделенные сельской местностью, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они неизбежно должны будут сдаться.
Доказательством непроходимой глупости этого странного правительства Национальной обороны является в моих глазах то, что, придя к власти, оно не приняло сразу же всех необходимых мер для разъяснения крестьянам положения вещей в настоящее время и для того, чтобы повсеместно поднять их на вооруженное восстание. Разве так трудно было понять столь простую и очевидную для всех вещь, что от массового восстания крестьян и городского населения зависело и еще теперь зависит спасение Франции? А сделало ли правительство Парижа и Тура до сих пор хоть один шаг в этом направлении? Предприняло ли оно хоть что-нибудь, чтобы вызвать крестьянский бунт? Оно не только ничего не сделало для того, чтобы поднять крестьян, наоборот, оно предприняло все для того, чтобы этот бунт стал невозможен. В этом его безрассудство и преступление, которые могут убить Францию.
Оно сделало восстание деревни невозможным, сохранив во всех коммунах Франции муниципальную администрацию империи: это те же мэры, мировые судьи, полевые сторожа, не забыты и гг. кюре, которых выбирали и назначали, которым покровительствовали гг. префекты, субпрефекты, а также императорские епископы с одной целью: отстаивать интересы династии во что бы то ни стало, даже вопреки интересам самой Франции. Это те же чиновники, которые проводили все выборы в империи, включая последний плебисцит, те, которые еще в августе под руководством г-на Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, организовали против всех и всяческих либералов и демократов в защиту Наполеона III, в то время, когда этот негодяй отдал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, ужасную пропаганду, распространяя во всех коммунах нелепую и вместе с тем гнусную клевету, будто республиканцы, навязав императору эту войну, объединились теперь с немецкими солдатами против него.
Таковы люди, которые благодаря одинаково преступному благодушию или глупости правительства Национальной обороны по сей день стоят во главе всех сельских коммун Франции. Могут ли эти люди, безвозвратно скомпрометировавшие себя, изменить теперь свое мнение, могут ли они, вдруг изменив свою линию, взгляды и речи, действовать как искренние сторонники республики и борцы за спасение Франции? Да крестьяне смеялись бы им в лицо. Поэтому они вынуждены говорить и действовать сегодня так, как и прежде, вынуждены отстаивать и защищать дело императора против республики, династии против Франции и дело пруссаков, ныне союзников императора и его династии, против Национальной обороны. Вот чем объясняется, почему все коммуны открывают ворота пруссакам вместо того, чтобы оказывать им сопротивление.
Повторяю еще раз, в этом — величайший позор, огромное несчастье и страшная опасность для Франции; и вся вина за это падает на правительство Национальной обороны. Если дела будут продолжать идти таким же образом, если положение в деревне не изменится в самое ближайшее время, если не удастся поднять крестьян против пруссаков, то Франция безвозвратно погибнет.
Но как поднять крестьян? Я подробно останавливался на этом вопросе в другой брошюре*. Здесь же скажу коротко. Без сомнения, первое условие, это — немедленно и в массовом количестве отозвать всех чиновников, находящихся в данный момент в коммунах, потому что, пока эти бонапартисты остаются на местах, сделать ничего нельзя. Но это будет только отрицательной мерой. Она совершенно необходима, но недостаточна. На крестьянина, натуру реалистичную и недоверчивую, можно успешно воздействовать только при помощи положительных средств. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, даже подписанные всеми членами правительства Национальной обороны, впрочем, ему совершенно незнакомыми, точно так же и газетные статьи не оказывают на него ровно никакого влияния. Крестьянин не читает. Ни воображением, ни сердцем он не воспринимает идеи, выраженные в литературной или отвлеченной форме. Чтобы повлиять на крестьянина, идеи должны быть выражены в живом слове живых людей и воплощены в делах. Тогда он слушает, понимает и в конце концов позволяет себя убедить.
* Lettres a un Francais sur la crise actuelle. Septembre 1870.
Следует ли посылать в деревню пропагандистов, поборников республики? Это было бы неплохим средством, но здесь есть одна трудность и двойная опасность. Трудность заключается в том, что правительство Национальной обороны, тем ревнивее оберегающее свою власть, чем более она колеблется, и верное своей злополучной системе политической централизации, оказавшись в положении, когда централизация стала совершенно невозможной, захочет само выбрать и назначить всех пропагандистов, или, вернее, оно возложит эту обязанность на своих новых префектов и чрезвычайных комиссаров, почти поголовно исповедующих одну с ней политическую религию, т. е. на буржуазных республиканцев, адвокатов, редакторов газет, иногда бескорыстных (лучших, но не всегда самых разумных), а большею частью и очень даже своекорыстных почитателей республики, о которой они знают не из жизни, а из книг и которая одним сулит славу с ореолом мученика, другим — блестящую карьеру и доходное место. Притом речь идет о республиканцах очень умеренных, консервативных, рациональных и позитивистских, каков сам Гамбетта, и в качестве таковых — ожесточенных врагов революции и социализма и уж, конечно, сторонников сильной государственной власти.
Эти почтенные чиновники новой республики, конечно, захотят послать в деревни в качестве миссионеров людей их собственной закваски, тех, кто полностью разделяет их политические убеждения. Для всей Франции их потребовалось бы по меньшей мере несколько тысяч. Где они их возьмут, черт побери? Буржуазные республиканцы теперь так редки, даже среди молодежи! Так редки, что в таком городе, как Лион, например, их не найдется в достаточном количестве для самых важных должностей, которые можно доверить только самым искренним республиканцам.
Первая опасность состоит в следующем: даже если бы префекты и субпрефекты нашли в своих департаментах достаточное число молодых людей для пропаганды в деревне, эти новые миссионеры были бы, безусловно, почти во всех случаях и повсюду по уровню революционной убежденности и твердости характера ниже по сравнению с пославшими их префектами и субпрефектами, которые, в свою очередь, в этом отношении сами стоят ниже этих никчемных эпигонов великой революции, занимающих сегодня высокие посты членов правительства Национальной обороны и посмевших взять в свои немощные руки судьбы Франции. Так, опускаясь все ниже и ниже, от ничтожества к еще большему ничтожеству, не найдут ничего лучшего, как направить в деревню для пропаганды республики республиканцев типа г-на Андрие, прокурора республики, или г-на Эжена Верона, редактора лионского Прогресса, людей, которые от имени республики будут заниматься пропагандой реакции. Как вы думаете, дорогой друг, может ли это расположить крестьян в пользу республики?
Увы, я боюсь обратного. Между хилыми почитателями буржуазной республики, отныне невозможной, и французским крестьянином, который хотя и не позитивист и не рационалист, как Гамбетта, но тем не менее очень положителен и полон здравого смысла, нет ничего общего. Если бы даже они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они не замедлили бы убедиться, что все их литературное, доктринерское, адвокатское витийство рухнуло бы перед хитроватой замкнутостью неотесанных деревенских тружеников. Расшевелить крестьян возможно, но очень трудно. Для этого прежде всего нужно нести в самом себе глубокую, могучую страстность, которая волнует души и творит то, что в обычной жизни, в однообразном повседневном существовании зовется чудом. Она творит чудеса энергии, преданности, самопожертвования и победного действия. Люди 1792—1793 гг., особенно Дантон, обладали этой страстностью, и она-то им и давала силу творить чудеса. Они были неутомимы, и им удалось передать эту энергию всей нации, или, лучше сказать, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, охватившей народ.
Среди нынешних или бывших членов радикально-буржуазной партии Франции случалось ли вам знать хоть одного, который бы нес в своем сердце что-то близкое страстности и вере, воодушевлявших людей первой революции, или, может быть, вы хотя бы слышали о таком человеке? Нет ни одного, не правда ли? Позже я изложу вам причины, которым, по-моему, следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Здесь я просто констатирую этот упадок и утверждаю — дальше я это докажу, — что буржуазный республиканизм морально и интеллектуально выродился, утратил разум и силу, стал лживым, подлым, реакционным и, как таковой, полностью вытеснен из исторической реальности революционным социализмом.
Мы с вами, дорогой друг, наблюдали представителей этой партии в самом Лионе. Мы их видели в действии. И что же они говорили, что предприняли, чем продолжают заниматься в условиях ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Они насаждают реакцию, мелкую, жалкую реакцию. На большую у них еще не хватает смелости. Не прошло и двух недель, как население Лиона убедилось, что руководители республики и монархии отличаются друг от друга только названием. Та же ревностная забота о сохранении власти, которая ненавидит народ и страшится его контроля, то же недоверие к народу, то же почтение и угодливость перед привилегированными классами. И тем не менее, г-н Шальмель-Лакур, префект, ставший благодаря рабскому малодушию Лионского муниципалитета диктатором этого города, — задушевный друг г-на Гамбетта, его дорогой избранник, конфиденциальный доверенный и точный выразитель самых сокровенных мыслей этого великого республиканца, этого твердого человека, от которого Франция тупо ждет своего избавления. А г-н Андрие, нынешний прокурор республики, — прокурор, поистине достойный этого звания, поскольку он обещает скоро превзойти своим ультраюридическим усердием и чрезмерным пристрастием к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи,— при прежнем режиме слыл за вольнодумца, за заклятого врага священников, за преданного сторонника социализма и друга Интернационала. Мне кажется даже, что незадолго до падения империи он был за это удостоен чести попасть в тюрьму, откуда был освобожден ликующим народом Лиона.
Как же так случилось, что эти люди изменились и вчерашние революционеры стали сегодня убежденными реакционерами? Не следствие ли это удовлетворенного честолюбия, того, что, заняв благодаря народной революции довольно высокое и выгодное положение, они во что бы то ни стало стараются удержать его за собой? Да, конечно, честолюбие и корысть — могучие двигатели, развратившие немало людей, но я не думаю, чтобы две недели власти были достаточны, чтобы развратить чувства этих новых чиновников республики. Может быть, они обманывали народ, выдавая себя во время империи за приверженцев революции? Так вот, откровенно говоря, я не могу этому верить. Они не хотели никого обмануть; но они сами обманулись на свой счет, вообразив себя революционерами. Свою ненависть к империи, очень искреннюю, даже если она не была очень действенной и страстной, они приняли за сильную любовь к революции и, строя иллюзии в отношении самих себя, не подозревали, что одновременно были и сторонниками республики, и реакционерами.
«Реакционная идея*, — говорит Прудон, — зародилась — пусть народ этого никогда не забывает! — внутри самой республиканской партии». И далее он добавляет, что источником этой идеи «было ее правительственное рвение», ее суетливое, мелочное, фанатичное, полицейское усердие, ее деспотизм, под предлогом самого спасения свободы и республики.
* Idee generate de la Revolution.
Буржуазные республиканцы совершают грубую ошибку, отождествляя свою республику со свободой. В этом-то и есть главная причина их иллюзий, когда они в оппозиции, и их разочарования и непоследовательности, когда они у власти. Их республика вся основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно быть тем более сильно и действенно, что оно избрано народом; и они не хотят постичь истину, такую простую и притом подтвержденную опытом всех времен и всех стран, что всякая организованная власть, установленная, чтобы управлять народом, неизбежно исключает свободу народа. Единственное назначение политического государства — защищать эксплуатацию народного труда экономически привилегированными классами, поэтому государственная власть может соответствовать свободе только этих классов, чьи интересы она представляет, и по этой же причине она должна быть враждебна свободе народа. Слова «государство», «власть» означают господство, а всякое господство подразумевает существование масс, над которыми господствуют. Следовательно, государство не может доверять стихийным действиям, свободному движению масс, самые кровные интересы которых противоречат его существованию. Государство — их естественный враг, их обязательный угнетатель, и, всячески остерегаясь признать это, оно всегда будет действовать именно так.
Вот чего не понимают молодые сторонники авторитарной или буржуазной республики, пока они остаются в оппозиции и сами еще не попробовали власти. Презирая всем сердцем, со всею страстью, на какую еще способны эти жалкие, выродившиеся и расслабленные натуры, монархический деспотизм, они воображают, что презирают деспотизм вообще. Им очень бы хотелось иметь силу и мужество опрокинуть трон, и потому они считают себя революционерами. Они и не подозревают, что ненавидят не деспотизм, а лишь его монархическую форму и что этот же деспотизм, приняв республиканское обличье, найдет в них самых рьяных приверженцев.
Они не понимают, что деспотизм заключается не столько в форме государства или власти, сколько в самом принципе государства и политической власти, и что, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое императором или королем. Между этими двумя государствами есть только одно реальное различие. Оба равно имеют своей основой и целью экономическое порабощение масс в интересах имущих классов. Отличаются же они друг от друга тем, что для достижения этой цели монархическая власть, повсюду неизменно стремящаяся к военной диктатуре, не допускает свободы ни одного класса, даже того, который она защищает в ущерб народу. Она хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но она не позволяет ей всерьез вмешиваться в управление делами страны.
Эта система, если она попадает в неумелые или весьма нечестные руки или если она слишком явно противопоставляет интересы династии интересам тех, кто занимается промышленностью и торговлей страны, как это только что случилось во Франции, может причинить большой вред интересам буржуазии. Кроме того, она имеет еще один очень серьезный, с точки зрения буржуа, недостаток: она задевает их тщеславие и гордость. Правда, система защищает их и предоставляет им, с точки зрения эксплуатации труда народа, полную безопасность, но в то же время она их унижает, резко ограничивая их маниакальную рассудительность, а когда они осмеливаются протестовать, она грубо обращается с ними. Это возмущает, конечно, самую пылкую, если хотите, самую великодушную и наименее рассудительную часть буржуазного класса, и таким образом в нем самом из ненависти к этому подавлению образуется республиканско-буржуазная партия.
Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Искоренения эксплуатации народных масс, официально охраняемой государством и гарантируемой им? Действительной и полной эмансипации для всех посредством экономического освобождения народа? Ничуть не бывало. Буржуазные республиканцы — самые непримиримые и злейшие враги социальной революции. Во время политического кризиса, когда они нуждаются в могучих руках народа, чтобы низвергнуть трон, они снисходят до обещания улучшения материального положения этого вызывающего такой интерес класса трудящихся. Но так как в то же время они полны решимости сохранить и укрепить все принципы, все священные основы существующего общества, все экономические и правовые институты, которые имеют своим непременным следствием действительное рабство народа, то все их обещания, естественно, всегда обращаются в дым. Обманутый народ ропщет, угрожает, возмущается, и тогда, чтобы предупредить взрыв народного недовольства, они, буржуазные революционеры, вынуждены прибегнуть к репрессивному всемогуществу государства. Отсюда следует, что республиканское государство так же угнетает, как и монархическое, но делает это только в отношении народа и ни в коей мере — в отношении имущих классов.
Поэтому ни одна форма правления не была столь угодна буржуазии и так любима этим классом, как республика, если бы при настоящем экономическом положении Европы она была способна устоять под натиском все более и более угрожающих социалистических стремлений рабочих масс. Если буржуа в чем-нибудь и сомневается, то отнюдь не в добротности республики, в которой все как нельзя более благоприятствует ему, а в ее могуществе как государства, в ее способности выстоять и защитить его от пролетарских бунтов. Вы не встретите ни одного буржуа, который не сказал бы вам: «Республика — прекрасная вещь, но, к сожалению, она невозможна; она недолговечна, потому что она никогда не найдет в себе достаточно силы, чтобы стать настоящим, почтенным государством, способным заставить себя уважать и внушить массам почтение к нам». Обожая республику платоническою любовью, но сомневаясь в ее возможностях или по крайней мере в ее продолжительности, буржуа, следовательно, всегда готов стать под защиту военной диктатуры, которую он ненавидит, которая его оскорбляет, унижает, в конце концов рано или поздно его разорит, но которая по крайней мере предоставляет ему все условия, гарантирующие силу, спокойствие на улицах и общественный порядок.
Это роковое пристрастие большей части буржуазии к военному режиму приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они прилагали и продолжают прилагать, особенно в настоящее время, «сверхчеловеческие» усилия, чтобы заставить ее полюбить республику, убедить в том, что, ничуть не вредя интересам буржуазии, республика будет, наоборот, вполне благоприятствовать ей, т. е., иначе говоря, она всегда будет противостоять интересам пролетариата и у нее всегда будет достаточно силы, чтобы заставить народ уважать законы, гарантирующие спокойное экономическое и политическое господство буржуа.
Такова сегодня главная забота всех членов правительства Национальной обороны, так же как и всех префектов, субпрефектов, адвокатов республики и генеральных комиссаров, направленных ими в департаменты. Речь идет не столько о защите Франции от вторжения пруссаков, сколько о том, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы, обладающие в настоящее время государственной властью, имеют твердое намерение и необходимую силу, чтобы предотвратить бунты пролетариата. Станьте на эту точку зрения и вам станут ясны все непонятные ранее действия этих странных защитников и спасителей Франции.
Движимые этим принципом и преследуя эту цель, они невольно тянутся к реакции. Как могли бы они служить революции и вызывать ее, даже если бы они были уверены, как это и случилось сегодня, в том, что революция — единственное средство спасения Франции? Как могли бы эти люди, официально несущие в самих себе паралич и смерть всякого выступления народа, как могли бы они внести жизнь и движение в деревню? Что могли бы они сказать крестьянам, чтобы поднять их против пруссаков, в присутствии этих бонапартистских кюре, мировых судей, мэров и полевых сторожей, к которым они, в силу своего чрезмерного пристрастия к общественному порядку, питают уважение и которые, имея в сельской местности гораздо большее влияние и обладая гораздо большей силой воздействия, чем они, с утра до вечера ведут совершенно иную пропаганду и будут продолжать ее вести? Удастся ли им взволновать крестьян словами, притом что все факты будут находиться с этими словами в противоречии?
Учтите, крестьянин ненавидит все правительства. Он их терпит из осторожности, регулярно платит им налоги, допускает, что берут его сыновей в солдаты, потому что не видит иного выхода, он не способствует никакой перемене, потому что он убежден, что все правительства стоят одно другого и что новое правительство, как бы оно ни называлось, будет не лучше старого, и потому что он хочет избежать риска и издержек, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов для него ненавистнее всего республиканское правительство, потому что оно напоминает ему о добавочных сантимах 1848 года. К тому же в течение двадцати лет это правительство чернили в его глазах. Для него это — пугало, прежде всего потому, что представляет в его глазах режим насилия, разорительных набегов, режим, который не приносит никакой выгоды, а только материальные убытки. Республика для него — это господство того, что он более всего ненавидит. Это — диктатура городских адвокатов и буржуа, а уж раз необходима диктатура, то его дурной вкус сказывается в предпочтении сабельной диктатуры.
Как же после этого надеяться, что официальным представителям республики удастся склонить к ней крестьянина? Если он почувствует себя сильным, он будет насмехаться над ними и выгонит их из своей деревни; в противном же случае он замкнется в своем молчании и бездействии. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов или редакторов в деревню для пропаганды республики значило бы нанести ей смертельный удар.
Но что же тогда делать? Есть только одно средство: революционизировать деревни так же, как и города. А кто может это сделать? Единственный класс, который в настоящее время действительно и искренне несет в себе революцию, — это класс трудящихся городов.
Но как могут трудящиеся приняться за революционизирование деревни? Пошлют ли они в каждую деревню отдельных рабочих для пропаганды республики? Но откуда они возьмут деньги, необходимые для этой пропаганды? Правда, гг. префекты, субпрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но тогда они были бы посланцами не рабочего мира, а государства, что коренным образом изменило бы их особенности, их роль и даже сам характер их пропаганды, которая вследствие этого непременно стала бы реакционной вместо революционной, потому что первое, что они должны были бы сделать, — внушить крестьянам доверие ко всем вновь учрежденным или сохраненным республикой органам власти, следовательно, и к бонапартистским властям, отрицательное воздействие которых продолжает еще сказываться в деревне. Впрочем, очевидно, что гг. субпрефекты, префекты и генеральные комиссары согласно естественному закону, по которому каждый предпочитает то, что ему нравится, а не то, что ему претит, выбрали бы для выполнения роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных и угодливых. Это была бы опять-таки реакция в рабочем обличье, а мы уже сказали, что одна только революция может революционизировать деревню.
Наконец, следует добавить, что пропаганда отдельных лиц, если бы даже она велась самыми революционными людьми на свете, не могла бы оказать большого влияния на крестьян. Красноречие их совсем не привлекает, и, если слова не являются проявлением силы и не сопровождаются непосредственно делами, они остаются для них только словами. Рабочий, явившийся в деревню один для произнесения речей, подвергся бы риску быть осмеянным и изгнанным, как буржуа.
Так что же надо делать?
Для пропаганды революции в деревне нужно посылать волонтеров.
Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, тот сам должен быть истинным революционером. Чтобы поднять людей, надо самому быть очень деятельным, неутомимым, иначе это только пустые слова, бесполезный шум, а не действия. Итак, прежде всего волонтеры-пропагандисты должны быть сами революционно настроены и организованы. Они должны нести революцию в своем сердце, чтобы создать революционное настроение вокруг себя. Затем они должны выработать систему, линию поведения в соответствии с поставленною перед собой целью.
Какова же эта цель? Это — не навязать революцию деревне, а вызвать, возбудить ее там. Революция, навязанная официальными предписаниями или вооруженною силою,— это уже не революция, а нечто прямо ей противоположное, ибо такая революция непременно приводит к реакции. Кроме того, волонтеры должны в деревне представлять внушительную силу, способную заставить уважать себя. Это необходимо, конечно, не для принуждения, а для того, чтобы не возникло желания посмеяться над ними или дурно с ними обойтись, прежде чем выслушать их, — а это легко могло бы случиться с пропагандистами, действующими в одиночку, не поддержанными внушительной силой. Крестьяне неотесанны, а грубые натуры легко подчиняются престижу и демонстрации силы; потом они могут восстать против нее, если эта сила навязывает им условия, совершенно противоположные их инстинктам и интересам.
Вот чего должны остерегаться волонтеры. Они не должны ничего навязывать и должны все пробуждать. Первое, что они могут и, разумеется, должны сделать, — это устранить все, что могло бы помешать успеху пропаганды. Так, они должны начать с устранения без кровопролития всей администрации коммун, неизбежно зараженной бонапартизмом, а возможно, и легитимизмом или орлеанизмом. Они должны изгнать, если нужно, арестовать гг. чиновников в коммунах, а также всех реакционно настроенных крупных собственников, а с ними и господина кюре ни по какой иной причине, как только за тайное соглашение с пруссаками. Легальный муниципалитет должен быть заменен революционным комитетом, сформированным из небольшого числа наиболее энергичных и искренне принявших революцию крестьян.
Но прежде чем учреждать этот комитет, надо совершить переворот в настроениях если не всех, то по крайней мере у подавляющего большинства крестьян. Необходимо, чтобы это большинство охватила революционная страсть. Как совершить это чудо? Надо заинтересовать. Говорят, что французский крестьянин жаден; так вот, надо сделать так, чтобы именно в силу своей алчности он был заинтересован в революции. Необходимо предложить и немедленно дать ему большие материальные преимущества.
Пусть не сетуют на безнравственность подобной системы. В наши дни — имея перед собой примеры, которые являют нам все милостивейшие властители, в чьих руках судьбы Европы, их правительства, генералы, министры, крупные и мелкие чиновники, все привилегированные классы, духовенство, дворянство, буржуазия — было бы неумно возмущаться против нее. Это было бы совершенно бесполезным лицемерием. Сегодня материальные интересы правят всеми, ими объясняется все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян теперь губят Францию, почему бы интересам и корыстолюбию крестьян не спасти ее? Тем более, что один раз они ее уже спасли, в 1792 году.
Вот что говорит по этому поводу великий французский историк Мишле, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме*:
«Никогда не было такой пахоты, как в октябре 91 г., когда хлебопашец, серьезно предупрежденный событиями в Варение и Пильнице, впервые призадумался над грозившими ему опасностями, над тем, что у него хотят отнять завоевания революции. Его труд, вдохновленный воинственным негодованием, в мыслях представлялся ему боевым походом. Он пахал, как солдат, шел за сохою военным шагом и, суровее обыкновенного стегая кнутом своих быков, кричал одному: «Но-о, Пруссия!», а другому: «Вперед, Австрия!». Бык шел, как боевой конь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась дыханием жизни.
* Idee generate de la Revolution.
Не мог этот человек, в котором впервые проснулось человеческое достоинство, терпеливо ждать, пока у него отнимут то, чем он недавно стал владеть. Свободный и идущий по свободному полю, он, ступая ногой, чувствовал под собою землю без податей и десятинного сбора, землю, которая уже принадлежит ему или будет принадлежать ему завтра... Нет больше господ! Все господа! Все короли, каждый на своей земле. Сбывается старая поговорка: бедный человек — в своем доме король.
В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?»
И далее, где он говорит о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением Брауншвейга:
«Вступив в Верден, Брауншвейг так удобно устроился, что остался там на неделю. Уже там эмигранты, окружавшие прусского короля, начали ему напоминать о данных им обещаниях. Принц сказал при отъезде странные слова (Гарденберг слышал их) о том, что он «не будет вмешиваться в управление Францией, а только возвратит королю абсолютную власть». Возвратить королю королевскую власть, церкви — священникам, собственность — собственникам — в этом заключалось все его честолюбие. И за все эти благодеяния чего требовал он от Франции? Никаких территориальных уступок. Пруссии должны быть только возвращены издержки войны, предпринятой для спасения Франции.
Эта короткая фраза, возвратить собственность, заключала в себе многое. Крупным собственником было духовенство; речь шла о том, чтобы возвратить ему имущество в четыре миллиарда, возвратить все то, что было продано на миллиард уже в январе 92 г. и что за истекшие с тех пор девять месяцев возросло в громадных размерах. Что должно было статься с бесчисленными контрактами, которые были прямым или косвенным следствием этой операции? При этом был бы нанесен ущерб не только тем, кто приобрел, но и тем, кто давал им взаймы деньги, и тем, кому они перепродали, и множеству других лиц... множеству людей, действительно связанных с Революцией значительным интересом. Этим владениям, которые уже несколько веков не служат цели, поставленной их благочестивыми основателями, Революция вернула их истинное назначение: обеспечить жизнь и содержание бедняка. Они перешли из мертвых рук в живые, от лентяев к труженикам, от развратных аббатов, пузатых каноников, чванливых епископов к честному хлебопашцу. В этот короткий промежуток времени возникла новая Франция. А эти невежды (эмигранты), которые привели иностранца, и не подозревали об этом...
Услышав многозначительные слова о восстановлении священников, о возврате к старому и т. д., крестьянин навострил уши и понял, что во Франции начинается контрреволюция, что близятся большие перемены, касающиеся и вещей, и людей. Не все имели ружья, но у кого они были, тот взялся за оружие, у кого были вилы, тот взял вилы, у кого коса, тот взял косу. Что-то происходило на французской земле. Казалось, она сразу менялась там, где проходил иностранец. Она обратилась в пустыню. Хлеб с полей исчез, как будто бы его унес ураган; он был увезен на запад. На своем пути враг встречал только одно: зеленый виноград, болезнь и смерть».
А еще далее Мишле рисует такую картину восстания французских крестьян:
«Население стремилось к бою с таким увлечением, что власти начинали бояться этого и удерживали его. Беспорядочные массы, почти невооруженные, устремлялись к одному и тому же месту; не знали, где их поместить и чем кормить. На востоке, главным образом в Лотарингии, холмы и все возвышенные участки превратились в лагеря, наскоро укрепленные срубленными деревьями, вроде наших древних лагерей времен Цезаря. Если бы это увидел Верцингеториг, он решил бы, что находится в центре Галлии. Немцам было над чем призадуматься, когда они проходили мимо, оставляя позади себя эти народные лагеря. Каково-то им будет возвращаться? Каково должно было бы быть их бегство в окружении этих враждебных масс, которые хлынут на них, как вешние воды?.. Они должны были заметить, что им придется иметь дело не с армией, а с Францией».
Увы! Разве не обратное тому видим мы теперь? Но почему та же самая Франция, которая в 1792 году поднялась вся целиком, чтобы отбросить чужеземное нашествие, не поднимается теперь, когда ей угрожает гораздо большая опасность, чем в 1792 году? О, да потому, что в 1792 году она была наэлектризована Революцией, а теперь она парализована Реакцией, представленной в лице правительства пресловутой Национальной обороны, которое ее защищает.
Почему в 1792 году крестьяне поднялись против пруссаков, и почему теперь они остаются не только инертными, но скорее даже благожелательными к тем же пруссакам и враждебными к той же республике? О, ведь для них это уже не та самая республика. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 года, была именно народной и революционной. Она представила народу огромный или, как говорит Мишле, значительный, интерес. Путем конфискации в большом количестве прежде всего церковных владений, а затем имений эмигрировавших, восставших, подозреваемых в измене, гильотинированных дворян она дала ему землю, и, чтобы сделать невозможным возврат этой земли ее прежним владельцам, народ поднялся всей массой. Между тем теперешняя республика — вовсе не народная, напротив, она полна неприязни и недоверия к народу, эта республика адвокатов, Несносных доктринеров, провозглашенная буржуазной, ничего не дает народу, кроме фраз, роста налогов и опасностей, без какой бы то ни было компенсации.
Крестьянин не верит в эту республику, хотя и по другим причинам, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазной, слишком благоприятной для буржуазии, и он питает к буржуазии в глубине своего сердца мрачную ненависть, которая, проявляясь в несколько иной форме, чем ненависть городских рабочих к этому потерявшему уважение классу, тем не менее также сильна.
Крестьяне, по крайней мере огромное большинство крестьян — этого никогда не надо забывать,— хотя и стали собственниками, но тем не менее живут трудами своих рук. Это резко отделяет их от класса буржуазии, большая часть которого живет прибыльной эксплуатацией труда народных масс, а, с другой стороны, объединяет с городскими трудящимися, несмотря на все различие их положений, которое не в пользу рабочих, несмотря на все различие идей и расхождение в принципах, которое, к сожалению, возникает слишком часто.
Городских рабочих от крестьян особенно отдаляет некий аристократизм ума, кстати, почти безосновательный, которым они часто кичатся перед крестьянами. Рабочие, несомненно, более начитанны, их ум более развит, знания и идеи более широки. Пользуясь этим небольшим превосходством, они иногда обходятся с крестьянином свысока, пренебрежительно. И, как я уже отметил в другой статье*, рабочие в этом случае совершенно неправы, так как по той же причине буржуа, которые гораздо более развиты и образованны, чем рабочие, имели бы еще больше оснований относиться к этим последним свысока. И буржуа, как известно, не упускают случая показать свое превосходство.
* Lettres а un Francais sur la crise actuelle. Septembre 1870.
Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из статьи, о которой я только что упомянул. «Крестьяне, — писал я в этой брошюре, — считают городских рабочих приверженцами раздела земли и боятся, как бы социалисты не конфисковали их земли, которые они ценят превыше всего. Что же должны предпринять рабочие, чтобы преодолеть недоверие и враждебность крестьян к ним? Прежде всего, перестать выражать им свое пренебрежение, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян несет в себе огромную опасность. Не будь этого недоверия и этой ненависти, революция совершилась бы уже давно, так как, к сожалению, враждебное отношение деревни к городу составляет не только во Франции, но и в других странах основу и главную силу реакции. Поэтому в интересах революции, которая их освободит, рабочие должны как можно скорее перестать выражать это презрение к крестьянам. Справедливость требует этого, потому что на самом деле у рабочих нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. Крестьяне не лежебоки, они такие же неутомимые труженики, как и рабочие; только работа их ведется при иных условиях, вот и все. Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина.
Крестьяне встанут вместе с городскими рабочими на защиту родины, как только они убедятся, что городские рабочие не стремятся навязать им ни своей воли, ни какого бы то ни было политического и социального строя, придуманного городом для вящего благополучия деревни, как только у них явится уверенность, что рабочие не имеют никаких притязаний на их землю.
Итак, самое необходимое в данное время — это чтобы рабочие действительно отказались от всех подобных притязаний и намерений и отказались бы так, чтобы крестьяне знали об этом и действительно убедились в этом. Рабочие должны отказаться от этого, ибо если бы даже подобные притязания были осуществимы, они бы оказались в высшей степени несправедливы и реакционны. А теперь, когда это абсолютно невозможно, они стали бы просто преступным безумием.
По какому праву рабочие стали бы навязывать крестьянам какую-либо форму правления и организации? По праву революции, скажут нам. Но революция перестает быть революцией, если вместо того, чтобы звать массы к свободе, она вызывает в их среде реакцию. Средство и условие, если не сказать, главная цель революции, это — отрицание принципа авторитета во всевозможных его проявлениях, это — полное уничтожение политического и правового государства, потому что государство, младший брат церкви, как это хорошо показал Прудон, есть историческое закрепление всякого деспотизма, всех привилегий, политическая основа всякого экономического и социального порабощения, сущность и средоточие всякой реакции. Устраивая именем революции государство, хотя бы временное, тем самым создают реакцию и деспотизм, а не свободу, привилегии, а не равенство. Это ясно, как Божий день. Но французские рабочие-социалисты, воспитанные в политических традициях якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они будут вынуждены это понять во благо революции и их самих. Откуда явилось у них это притязание, настолько же смешное, как и высокомерное, настолько же несправедливое, как и пагубное, навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающих его? Очевидно, это также наследие буржуазии, политическое завещание буржуазной революционности. Каково же объяснение, какова же теоретическая основа этого притязания? Это не более как мнимое или хотя бы даже действительное превосходство ума, образования, одним словом, цивилизации рабочих над цивилизацией деревни. Но разве вы не знаете, что этот же принцип может оправдать все завоевания и всякого рода притеснения? У буржуа, например, никогда и не было иного принципа для доказательства своего призвания управлять или — что одно и то же — эксплуатировать рабочих. Переходя от одной нации к другой, от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий из себя не что иное, как принцип авторитета, объясняет и возводит в право все захваты и завоевания. Разве не им руководствовались немцы для осуществления всех своих посягательств на свободу и независимость славянских народов, разве не им оправдывают они все жестокости насильственной германизации? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцам начинает приходить в голову и то, что германская протестантская цивилизация вообще гораздо выше католической цивилизации, представителями которой являются народы латинской расы, в частности французской цивилизации. Берегитесь, как бы им вскоре не пришло в голову, что их назначение просветить и осчастливить вас, подобно тому, как вы воображаете, что ваша миссия состоит в том, чтобы цивилизовать и осчастливить ваших соотечественников, ваших братьев, французских крестьян. По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в международных отношениях, и в отношениях между классами к всегда буду на стороне тех, кого хотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции.
Но даже если это и так, возразят мне, разве можно оставить невежественных и суеверных крестьян под влиянием реакции, во власти ее происков? Конечно, нет Нужно уничтожить реакцию как в деревне, так и в городе; но это надо сделать фактически, а не объявляя ей вой ну посредством декретов. Повторяю, декретами ничего нельзя уничтожить. Наоборот, декреты и всякие авторитарные акты укрепляют то, что они хотят разрушить.
Вместо того чтобы стремиться отобрать у крестьян земли, которыми они в настоящее время владеют, предоставьте им следовать природному инстинкту, и знаете, что произойдет тогда? Крестьянин хочет, чтобы вся земля принадлежала ему; в каждом знатном вельможе и богатом буржуа, обширные владения которых, обрабатываемые наемными работниками, уменьшают его поле, он видит чуждого ему человека и узурпатора. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы завладеть землями знати и буржуазии.
Но если бы это случилось, если бы крестьяне присвоили себе все земли, которые им еще не принадлежат, не привело бы это к губительному укреплению принципа индивидуальной собственности и не стали бы крестьяне еще более враждебны по отношению к городским рабочим — социалистам?
Вовсе нет, потому что, если государство уничтожено, то с его стороны нет политического, правового закрепления, гарантии собственности. Не будучи кодифицированной, она сведется просто к факту.
Тогда начнется гражданская война, скажете вы. Если личная собственность не будет более гарантирована никакой высшей властью, властью политической, административной, юридической и полицейской, и будет защищена только силою энергии владельца, то каждый захочет завладеть имуществом другого, более сильные будут грабить более слабых.
Разумеется, с самого начала события не будут происходить исключительно мирным путем: не обойдется без борьбы; общественный порядок, этот ковчег завета буржуазии, будет нарушен, и первые результаты подобного состояния дел приведут к тому, что принято называть гражданской войной. Но неужели вы предпочитаете отдать Францию пруссакам?..
Впрочем, не бойтесь, что крестьяне разорвут друг друга; если б у них и было даже это намерение вначале, они не преминули бы скоро убедиться в материальной невозможности упорствовать в этом направлении, и после этого можно быть уверенным, что они постараются договориться друг с другом, пойти друг другу на уступки и организоваться. Потребность кормиться и кормить свои семьи и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, оберегать свой дом, жизнь своих близких и свою собственную от неожиданных нападений — все это, несомненно, скоро заставит их вступить на путь взаимных договоренностей.
И вовсе не надо думать, что в этих соглашениях, заключаемых вне всякой официальной опеки, единственно силою вещей наиболее богатые и сильные получат преимущества. Богатство богатых, не защищенное более правовыми институтами, потеряет свою силу. В настоящее время богатые имеют влияние только потому, что благодаря угодничеству государственных чиновников они находятся под особым покровительством государства. Раз у них не будет этой опоры, их могущество тотчас исчезнет. Что же касается наиболее ловких и сильных, то они будут сметены коллективной силой массы малоимущих и беднейших крестьян, а также массы сельских пролетариев, обреченных ныне на молчаливое страдание, но которых революционное движение наделит неодолимой силой.
Я не утверждаю — заметьте, — что при такой переделке деревни снизу доверху она сразу создаст совершенную организацию, соответствующую по всем пунктам тому идеалу, о котором мы мечтаем. В одном убежден я: это будет живая организация и как таковая она станет в тысячу раз выше существующей теперь. Притом, поскольку эта новая организация останется вполне доступной для городской пропаганды и не будет более закреплена и, так сказать, не закостенеет благодаря юридической санкции государства, она будет свободно и безгранично прогрессировать, развиваться и совершенствоваться и при этом будет всегда живой и свободной, не декретированной и юридически не оформленной, до тех пор пока не достигнет такого совершенства, о котором мы в настоящее время можем только мечтать.
Так как спонтанная жизнь и деятельность, на долгие века прерванная всепоглощающим действием государства, вернется в коммуны, то естественно, что каждая коммуна возьмет за отправную точку своего нового развития не то мнимое интеллектуальное и моральное состояние, которое официальная фикция считала уже достигнутым, но действительное, реальное состояние своей цивилизованности, а поскольку степень действительной цивилизованности весьма различна в различных коммунах Франции, как и вообще всей Европы, то следствием этого неизбежно явится большая разница в развитии. Но взаимопонимание, гармония и равновесие, установленное с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство государств. Начнется новая жизнь, зародится новый мир...
Вы можете мне сказать: «Но разве это революционное движение, эта внутренняя борьба, которая неизбежно должна разгореться при разрушении политических и правовых институтов, не ослабит защиту отечества и, вместо того, чтобы способствовать изгнанию пруссаков, не облегчит ли она, наоборот, завоевание Франции?»
Вовсе нет. Опыт истории показывает, что нации достигают вершины своего могущества во внешней политике именно в эпохи внутренних смут и волнений и, наоборот, оказываются всего бессильнее в эпохи кажущегося единства и спокойствия под чьей-нибудь властью. Да иначе и быть не может: борьба — это работа мысли, это жизнь, а деятельная и живая мысль — это сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей истории. Возьмите Францию молодого Людовика XIV, только что покончившую с Фрондой, закаленную в этой борьбе, и Францию, когда этот король был уже старым, твердо установившуюся монархию, объединенную и умиротворенную великим королем. Первая блистает победами, вторая, идя от поражения к поражению, клонится к упадку. Сравните также Францию 1792 года с сегодняшней Францией. Если когда-нибудь Францию раздирала гражданская война, так это было в 1792 и 1793 годах: движение, борьба, борьба не на жизнь, а на смерть кипела по всей республике, и, однако, Франция победоносно отразила нападение почти всей Европы, образовавшей коалицию против нее. В 1870 году Франция, объединенная и умиротворенная империей, терпит поражение от немецких войск и до такой степени деморализована, что приходится опасаться за ее существование».
Здесь возникает вопрос: революция 1792 и 1793 годов могла дать крестьянам, не даром, но по очень низкой цене, национальные владения, т. е. церковные земли и земли эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, крестьянам больше нечего дать. Найдется, если поискать! Разве церковь и монашеские ордена обоего пола не стали снова очень богатыми благодаря преступному потворству законной монархии и особенно Второй империи? Правда, большая часть их богатств была весьма благоразумно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами никогда не пренебрегала материальными интересами и всегда славилась хитроумностью своих экономических спекуляций, конечно, поместила большую часть своих земных благ, которые она продолжает ежедневно приумножать для блага несчастных и бедных, во всякого рода коммерческие, промышленные и банковские предприятия, как общественные, так и частные, и в ренты всех стран, так что понадобилось бы ни больше ни меньше, как всеобщее банкротство, неизбежное следствие всеобщей социальной революции, чтобы лишить ее этого богатства, составляющего в настоящее время главное орудие ее могущества, увы, еще слишком значительного. Верно и то, что она владеет в настоящее время, особенно на Юге Франции, обширными земельными участками и сооружениями, а также большим количеством украшений и принадлежностей культа, настоящими сокровищами из серебра, золота и драгоценных камней. Так вот, все это может и должно быть конфисковано, но не в пользу государства, а коммунами.
Затем есть еще собственность тысяч бонапартистов, которые в продолжение двадцати лет императорского режима всеми силами его поддерживали и которым империя явно покровительствовала. Конфисковать эту собственность было и остается не только правом, но и долгом, потому что бонапартистская партия — это не обычная в историческом смысле партия, органически и закономерно возникшая в результате последовательного религиозного, политического и экономического развития страны и основанная на каком-либо национальном принципе, истинном или ложном. Это — шайка разбойников, убийц и воров, которая, опираясь, с одной стороны, на реакционную подлость буржуазии, дрожащей перед красным призраком и обагрившей руки кровью парижских рабочих, а с другой — на благословение священников и преступное честолюбие высших офицеров, ночью завладела Францией. «Дюжина светских Robert Macaire'os, разоренных и потерявших доброе имя, объединенных пороком и нуждой, чтобы вернуть себе положение и богатство, не остановилась перед одним из самых ужасных из известных истории покушений. Разбойники восторжествовали. Они нераздельно царствуют вот уже восемнадцать лет над прекраснейшей страной Европы, страной, на которую Европа по справедливости смотрит как на центр цивилизованного мира. Они создали официальную Францию по своему образу и подобию. Внешне они сохранили почти нетронутыми институты и установленный порядок вещей, но они лишили их самой сущности, низведя до уровня собственных понятий и нравов. Все старые слова остались. По-прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и гуманности; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, так что каждое слово означает в действительности нечто противоположное тому, что оно должно выражать; можно было бы сказать, что это общество бандитов по какой-то злой иронии употребляет самые благородные выражения для обсуждения самых гнусных намерений и действий. Не таков ли еще и в настоящее время характер императорской Франции? Есть ли, например, что-нибудь презреннее и отвратительнее, чем императорский сенат, составленный согласно конституции из всех знаменитостей страны? Не есть ли это, как всем известно, дом инвалидов для всех сообщников преступления, для всех пресыщенных героев декабря? Известно ли что-нибудь более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти суды и магистраты, единственной обязанностью которых является поддерживать во всех случаях и во что бы то ни стало беззакония креатур империи?»*.
* Les Ours de Bern et Г Ours de Saint-Petersbourg, complainte patriotique d'un Suisse Humilie et desespere. Neuchatel, 1870.
Вот что писал один из моих ближайших друзей в марте месяце, когда империя была еще в полном расцвете. То, что он говорил о сенаторах и судьях, одинаково относится ко всему официальному и официозному миру, к военным и гражданским чинам в коммунах и департаментах, ко всем преданным избирателям, равно как и ко всем депутатам-бонапартистам. Разбойничья шайка, вначале немногочисленная, с каждым годом все увеличивалась, привлекая в свою среду возможностью легкой наживы все негодные и развращенные элементы, и, затем, сплотивши их солидарностью в подлости и преступлении, кончила тем, что распространилась на всю Францию, опутав ее своими щупальцами, как огромная рептилия.
Вот что называют бонапартистской партией. Если когда-либо существовала преступная и губительная для Франции партия, то это именно бонапартисты. Эта партия не только лишила ее свободы, испортила ее характер, развратила ее совесть, принизила ее ум, опозорила ее имя; занимаясь в течение восемнадцати лет безудержным грабежом, она уничтожила богатство и силу Франции, а затем, доведя ее до упадка, отдала на произвол пруссаков. И теперь еще, когда можно было бы подумать, что эту партию терзают муки совести, что она должна была бы умереть от стыда, исчезнуть от сознания своей подлости, быть раздавленной всеобщим презрением, после нескольких дней кажущегося бездействия и молчания она снова поднимает голову, осмеливается снова говорить, открыто злоумышляет против Франции, принимая сторону подлого Бонапарта, с этого времени союзника и протеже пруссаков.
Это непродолжительное затишье и бездействие были вызваны не раскаянием, а исключительно ужасным страхом, испытанным при первом взрыве народного негодования. В первых числах сентября бонапартисты поверили в реальность революции и, хорошо сознавая, что нет такого наказания, которого бы они не заслужили, они бежали и попрятались, как подлые трусы, содрогаясь перед справедливым народным гневом. Они знали, что революция фраз не любит и, пробудившись от сна и начав действовать, народ не станет шутить. Бонапартисты сочли себя поэтому политически уничтоженными и в первые дни провозглашения республики только и думали, как бы понадежнее спрятать награбленные богатства и свои драгоценные особы.
Они были приятно удивлены, увидев, что они могут без всякого затруднения и без малейшей опасности открыто демонстрировать и то и другое. Как в феврале и марте 1848 года буржуазные доктринеры и адвокаты, стоящие ныне во главе нового временного республиканского правительства, вместо того, чтобы принять спасительные меры, стали довольствоваться фразами. Незнакомые с революционной практикой и истинным положением Франции, испытывая лишь ужас перед революцией, подобно своим предшественникам, гг. Гамбетта и К° захотели удивить мир рыцарским великодушием, не только несвоевременным, но и преступным; это явилось истинным предательством Франции, так как они выказали доверие и дали оружие в руки ее самому опасному врагу — шайке бонапартистов.
Движимое этим тщеславным желанием, этими фразами, правительство Национальной обороны приняло все необходимые меры, на этот раз даже весьма энергичные, к тому, чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры, могли спокойно покинуть Париж и Францию, захватив с собою их движимое имущество и поручив свои дома и земли, которых нельзя было увезти с собой, его особому попечению. Свою поразительную заботливость об этой шайке убийц Франции они довели до того, что рисковали потерять свою популярность, оказывая ей покровительство вопреки совершенно законному негодованию и недоверию народа. В частности, во многих провинциальных городах народ, ничего не понимающий в этом смешном проявлении столь неуместного великодушия, раз поднявшись, чтобы действовать, и идя прямо к цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся низостью и жестокостью своих официальных и частных действий. Как только правительство Национальной обороны и главным образом г-н Гамбетта как министр внутренних дел узнали об этом, он, воспользовавшись властью диктатора, которую считал возложенною на него народом и которую, по странному противоречию, считал нужным употреблять только против народа собственных провинций, а не в своих дипломатических отношениях с иностранным завоевателем, поспешил отдать решительный и высокомерный приказ немедленно освободить всех этих мерзавцев.
Вы, конечно, помните, дорогой друг, сцены, происходившие во второй половине сентября в Лионе вслед за освобождением бывшего префекта, генерального прокурора и имперских жандармов. Эта мера, исходившая непосредственно от г-на Гамбетта и с усердием и радостью приведенная в исполнение г-ном Андрие, прокурором республики, не без помощи муниципального совета, тем более возмутила народ Лиона, что в это же время в крепости этого города сидели закованные в кандалы солдаты, единственное преступление которых состояло в открытом выражении симпатий к республике и освобождения которых уже в течение нескольких дней народ тщетно добивался.
Я еще вернусь к этому случаю, в котором впервые ясно обнаружилась неизбежность разрыва между народом Лиона и республиканскими властями, как городскими выборными, так и назначенными правительством Национальной обороны. Теперь же, дорогой друг, я только хочу обратить ваше внимание на более чем странное противоречие, существующее между исключительной, чрезмерной, скажу больше, непростительной терпимостью этого правительства по отношению к людям, разорившим, опозорившим и предавшим страну и продолжающим еще и теперь ее предавать, и драконовской строгостью, проявляемой им в отношении республиканцев, несравненно более революционных, нежели оно само. Можно подумать, что диктаторская власть дана ему не революцией, а реакцией с единственной целью свирепствовать против революции и что оно носит имя республиканского правительства лишь для того, чтобы продолжать маскарад империи.
Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем наиболее усердных и самых скомпрометированных слуг Наполеона III лишь затем, чтобы освободить место для республиканцев. Вы сами были свидетелем, а отчасти и жертвой жестокости и усердия при преследовании, изгнании, арестах и заключении в тюрьму республиканцев. Не довольствуясь этими официальными и легальными мерами, преследователи прибегли к самой гнусной клевете. Они осмелились утверждать, что эти люди, отважившиеся среди официальной лжи, унаследованной от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, говорить правду, всю правду народу, были платными агентами пруссаков.
Они освобождают бонапартистов, доморощенных пруссаков, явных, общеизвестных, потому что кто же теперь может сомневаться в явном союзе Бисмарка с приверженцами Наполеона III? Они сами устраивают иностранное вторжение; во имя не знаю уж какой смехотворной законности и ради поддержания правительственного авторитета, существующего только на словах и на бумаге, они повсюду парализуют народное движение, бунты, стихийное вооружение и организацию коммун, которые при настоящих ужасных обстоятельствах только и могли бы спасти Францию; и уже этим они, члены правительства Национальной обороны, сами предают ее в руки пруссаков. Не довольствуясь арестами настоящих революционеров за то единственное преступление, что те посмели разоблачить их неспособность, бессилие и злонамеренность и указали единственный путь спасения Франции, они позволяют бросать им в лицо грязное прозвище пруссаков. О, как прав был Прудон, говоря (позвольте мне привести здесь весь этот отрывок; мысли, высказанные в нем, настолько верны и выражены так ярко, что жаль пропустить из него хоть одно слово):
«Увы! Предателями всегда могут быть только свои В 1848 г., как и в 1793 г., революцию тормозили те, кто были ее представителями. Наш республиканизм, как и старое якобинство, есть не что иное, как буржуазная прихоть без принципа и плана, которая и хочет, и не хочет; всегда ворчит, подозревает и тем не менее все-таки остается в дураках; видит повсюду, кроме своей партии, только крамольников и анархистов; роясь в полицейских архивах, умеет в них находить лишь настоящие или мнимые погрешности патриотов; запрещая культ Шателя, заставляет парижского архиепископа служить обедни; боится называть вещи своими именами из страха скомпрометировать себя; воздерживается от всего, никогда ничего не решает, не доверяет ясным доводам и точным положениям. Не есть ли это все тот же Робеспьер, краснобай без инициативы, находящий, что Дантон слишком тверд, порицающий великодушную отвагу, на которую он чувствует себя неспособным, уклоняющийся от событий 10 августа (как г-н Гамбетта и К° до 4 сентября), не одобряющий, но и не осуждающий сентябрьскую резню (как эти же граждане — провозглашение республики народом Парижа), подающий голос за конституцию 93 года и в то же время за ее отсрочку до полного восстановления мира, омрачающий праздник Разума и устраивающий праздник Верховного Существа, преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тинвилля; утром обнимающий в знак примирения Камилла Демулена, а ночью приказывающий арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и составляющий закон 22 Прериаля, превозносящий поочередно Сиейеса, Мирабо, Барнава, Петиона, Дантона, Марата, Эбера и приговаривающий одного за другим к смертной казни: Эбера, Дантона, Петиона, Барнава, первого — как анархиста, второго — как слишком снисходительного, третьего — как федералиста, четвертого — как конституционалиста; почитающий только правящую буржуазию и строптивое духовенство; дискредитирующий революцию то путем установления церковной присяги, то посредством выпуска ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находит свое прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, наконец, в тот день, когда, оставшись один с людьми, принадлежащими к золотой середине, он вместе с ними собирался извлечь из революции свою выгоду»*.
* Proudhon. Idee generate de la 'Revolution.
О да, главной особенностью всех буржуазных республиканцев, верных учеников Робеспьера, является их неизменное пристрастие к авторитету Государства и ненависть к Революции. Эта ненависть и это пристрастие у них общие с монархистами всех оттенков, включая и бонапартистов; и вот именно это-то сходство чувств, эта инстинктивная и скрытая солидарность заставляет их быть такими снисходительными и такими великодушными к наиболее преступным сообщникам Наполеона III. Они отлично знают, что многие из государственных людей империи заслужили гильотину и что все они причинили Франции огромное, почти непоправимое зло. Но все-таки они были государственными людьми, эти полицейские комиссары, эти патентованные шпионы с орденами, которые неустанно травили все, что было честного во Франции. И даже императорские жандармы, эти привилегированные народные убийцы, что бы о них ни говорили, разве они не были в конце концов слугами государства? А государственные люди питают друг к другу почтение, официальные же буржуазные республиканцы прежде всего — государственные люди и обижаются, когда кто-то позволяет себе в этом сомневаться. Прочтите все их речи, в особенности речи г-на Гамбетта. Вы там найдете в каждом слове свидетельства неустанной заботы о государстве, это смешное и наивное притязание демонстрировать себя повсюду как государственного человека.
Никогда не следует упускать это из виду, ибо этим объясняется все: и их снисходительность к разбойникам империи, и их суровое отношение к революционным республиканцам. Будь он монархист или республиканец, государственный человек не может иначе как с ужасом смотреть на Революцию и революционеров, потому что Революция — это ниспровержение Государства, а революционеры — разрушители буржуазного порядка, общественного порядка.
Вы думаете, я преувеличиваю? Я докажу это вам на фактах.
Те самые буржуазные республиканцы, которые в феврале и марте 1848 г. аплодировали великодушию временного правительства, способствовавшего бегству Луи-Филиппа и всех министров, и которые, отменив смертную казнь за политическое преступление, приняли благородное решение не преследовать ни одно должностное лицо за проступки, совершенные при предыдущем режиме, эти самые буржуазные республиканцы, включая, конечно, г-на Жюля Фавра, как известно, одного из самых фанатичных представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном собрании и в 1849 г. в Законодательном собрании, а в настоящее время члена правительства Национальной обороны, представителя республиканской Франции во внешних делах, что они провозгласили, постановили и сделали в июне? Проявили ли они такую же мягкость и доброту по отношению к рабочим массам, доведенным голодом до мятежа?
Г-н Луи Блан, тоже государственный человек, но социалист, ответит вам так*: «15 000 граждан были арестованы после июньских событий, и 4348 приговорены к ссылке без суда ради общественной безопасности. В течение двух лет они обращались к судьям: к ним были направлены комиссии милосердия, и их освобождение было так же произвольно, как и аресты. Можно ли было думать, что в середине XIX века найдется человек, который осмелится произнести перед Собранием следующие слова: «Предать суду сосланных на Белль-иль не было никакой возможности; против большинства из них нет никаких вещественных улик». И вот, так как, по утверждению этого человека, которым был Барош (Барош — сторонник империи и в 1848 г. пособник Жюля Фавра и многих других республиканцев, участвовавших в преступлении, совершенном против рабочих в июне), — за недостатком вещественных доказательств нельзя было с уверенностью рассчитывать на обвинительный вердикт, 468 заключенных плавучей тюрьмы без суда были отправлены в Алжир. В число их попал Лагард, бывший руководитель делегатов от Люксембурга. Он написал из Бреста рабочим Парижа прекрасное, хватающее за сердце письмо. Вот оно:
* Histoire de la Revolution de 1848, par Louis Blanc, tome II.
«Братья, тот, кто в февральские дни был удостоен высокой чести идти во главе вас; кто вот уже девятнадцать месяцев в молчании переносит вдали от своей многочисленной семьи страдания самого сурового заключения; кто, наконец, приговорен теперь без суда к десяти годам каторжных работ на чужой земле на основании обратно действующего закона, составленного, вотированного и принятого под влиянием ненависти и страха (буржуазными республиканцами), — тот не хотел покидать землю матери-родины, не узнав мотивов, на основании которых один дерзкий министр посмел состряпать ужасное предписание.
Поэтому я обратился к командиру понтона Ля-Геррьер, который дал следующие сведения, буквально списанные с бумаг, приложенных к делу:
«Лагард, делегат Люксембурга, человек несомненной честности, человек очень мирный, образованный, всеми любимый и именно вследствие этого очень опасный для пропаганды».
Оценке моих сограждан я предоставляю только этот факт, убежденный, что их совесть сумеет рассудить, кто заслуживает больше их сочувствия — палачи или жертва.
Что касается вас, братья, то позвольте мне сказать: я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но не говорю вам: прощайте!
Нет, братья, я не говорю вам — прощайте. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в республику, незыблемую, как мир! Вот почему я говорю вам: до свидания, и особенно призываю к единению и милосердию!
Да здравствует Республика!
На рейде Бреста. Понтон Ля-Геррьер
Лагард, бывший руководитель делегатов Люксембурга».
Что может быть красноречивее этих фактов! Они дают нам достаточное основание утверждать, что июньская буржуазная реакция, жестокая, кровавая, ужасная, циничная, постыдная, была истинной матерью декабрьского государственного переворота. Принцип был один и тот же, императорская жестокость была лишь подражанием буржуазной жестокости, превосходя ее лишь числом жертв, убитых и сосланных. Относительно убитых с уверенностью этого еще нельзя сказать, потому что июньская резня, короткая расправа национальной буржуазной гвардии с рабочими без всякого предварительного суда и даже не в самый день победы, но на другой день после нее, была ужасна. Что же касается числа сосланных, то разница значительна. Буржуазные республиканцы арестовали 15 000 и сослали 4 348 рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около 26 000 граждан и сослали почти половину, около 13 000. Конечно, с 1848 г. до 1852 г. произошел прогресс, но только в количестве, а не в качестве. Что касается качества, т. е. принципа, то нужно признать, что разбойникам Наполеона III можно гораздо больше простить, чем буржуазным республиканцам 1848 года. Они были разбойниками, наемными убийцами деспота; следовательно, убивая искренних республиканцев, они просто занимались своим делом, и даже можно сказать, что, отправляя половину своих пленников в ссылку, а не убивая их всех сразу, они проявляли в некотором роде великодушие; между тем как буржуазные республиканцы, сослав без всякого суда ради общественной безопасности 4 348 граждан, попрали свою совесть, наплевали на собственный принцип и, подготовив и узаконив декабрьский государственный переворот, они убили республику.
Да, я говорю это открыто, по моему искреннему убеждению, все эти Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пиетри и все их соучастники в кровавой имперской оргии гораздо менее виновны, чем г-н Жюль Фавр, теперешний член правительства Национальной обороны, менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые голосовали вместе с ним в Учредительном и Законодательном собраниях с 1848 до декабря 1851 года. Не чувство ли этой виновности и этой преступной солидарности с бонапартистами делает их теперь такими снисходительными и такими великодушными относительно этих последних?
Есть еще другой факт, который следует отметить и над которым следует подумать. Исключая Прудона и г-на Луи Блана, почти все историки революции 1848 года и декабрьского государственного переворота, а также крупнейшие писатели буржуазно-радикального направления, такие, как Виктор Гюго, Кине и проч., много говорили о декабрьском преступлении и декабрьских преступниках, но они ни разу не соизволили остановиться на июньском преступлении и июньских преступниках. Однако совершенно очевидно, что декабрь был не чем иным, как роковым следствием июня и его повторением в большем масштабе!
Почему же молчат об июне? Не потому ли, что июньскими преступниками были буржуазные республиканцы, с которыми упомянутые писатели чувствовали себя нравственно солидарными, были сторонниками их принципа, а следовательно, так или иначе косвенными соучастниками в их деле? Такое объяснение допустимо. Но есть еще и другое, достоверное: июньское преступление коснулось только рабочих, революционных социалистов, следовательно, людей чуждых классу и прирожденных врагов принципа, который представляют эти уважаемые писатели. Между тем как декабрьское преступление коснулось тысяч буржуазных республиканцев, которые были сосланы, их братьев по социальному положению, их политических единомышленников. К тому же многие из них сами попали в число жертв. Отсюда их большой интерес к декабрю и равнодушие к июню.
Общее правило: буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо сильнее огорчен и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, хотя бы этот последний был самый отчаянный империалист, чем несчастием рабочего, человека из народа. Подобное различение является величайшей несправедливостью, но эта несправедливость непредумышленна, она инстинктивна. Происходит она от того, что условия жизни и привычки, которые имеют над людьми несравненно большую власть, чем идеи и политические убеждения, эти условия и привычки, особый образ жизни, развития, мышления и действия, все эти социальные отношения, такие разнообразные и в то же время всегда сводящиеся к одной цели, которые составляют буржуазную жизнь, буржуазный мир, устанавливают между людьми, принадлежащими этому миру, как бы различны ни были их политические взгляды, солидарность гораздо более реальную, более глубокую, более крепкую и в особенности более искреннюю, чем та, которая могла бы установиться между буржуа и рабочими вследствие большей или меньшей общности убеждений и идей.
Жизнь доминирует над мыслью и детерминирует волю. Вот истина, которую никогда не следует упускать из виду, если хочешь понять что-либо в политических и социальных явлениях. Желая установить между людьми искреннюю и безусловную общность мыслей и воли, нужно исходить из одних и тех же условий жизни и общности интересов. А так как сами условия существования создают пропасть между буржуазным миром и миром рабочих, потому что один из них — мир эксплуатирующий, а другой — мир эксплуатируемый и жертва, то я делаю отсюда вывод, что если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет искренне и без лишних слов стать другом и братом рабочих, он должен отказаться от условий своей прошлой жизни, от всех буржуазных привычек, чувств и симпатий, решительно порвать с буржуазным миром и, повернувшись к нему спиной и объявив ему беспощадную, непримиримую войну, полностью окунуться, без ограничений и оговорок, в мир рабочих.
Если его жажда справедливости не настолько сильна, чтобы внушить ему это решение и мужество, чтобы это сделать, то пусть не обманывается он сам и не обманывает рабочих: он никогда не станет их другом. В своих отвлеченных мыслях, мечтах о справедливости, в моменты раздумий, теоретических рассуждений и затишья, когда внешне все спокойно, он может стать на сторону эксплуатируемого мира. Но как только настанет момент великого социального кризиса, когда эти два мира, непримиримо враждебные друг другу, сойдутся лицом к лицу в пылу великой битвы, все его жизненные привязанности непременно бросят его в мир эксплуатирующий. Так и произошло со многими нашими бывшими друзьями и всегда будет случаться со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.
Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо сильнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот объяснение снисходительности ваших буржуазных демократов по отношению к бонапартистам и их исключительной строгости к революционерам-социалистам. Они гораздо меньше ненавидят первых, чем последних, вследствие чего они объединяются с бонапартистами в общей реакции.
Вначале сильно перепуганные, бонапартисты, однако же, скоро заметили, что в правительстве Национальной обороны и во всем этом новом и официальном квазиреспубликанском мире они имеют могучих союзников. Они, должно быть, очень удивились и обрадовались — те, которые, за неимением других качеств, являются по крайней мере людьми практичными и знают средства для достижения своей цели, — когда увидели, что это правительство не только проявило уважение к их персонам и предоставило им полную свободу пользоваться награбленным, но оставило в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников империи, заменив только префектов и субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставив неприкосновенными бюро префектур, а также сами министерства, полные бонапартистов, и огромное большинство французских коммун в развращающем подчинении муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, тех самых муниципалитетов, которыми был проведен последний плебисцит и которые вели в деревнях при министерстве Паликао и под иезуитским руководством Шевро такую ужасную пропаганду в пользу подлеца.
Они, должно быть, много смеялись над этой действительно непонятной глупостью со стороны умных людей, входящих в состав нынешнего временного правительства, надеявшихся, что стоит им, республиканцам, захватить власть, как тотчас же вся бонапартистская администрация станет тоже республиканской. Совсем иначе действовали в декабре бонапартисты. Первой их заботой было сменить и изгнать всю республиканскую администрацию, вплоть до самых низших чиновников включительно, и поставить на все должности, от самых высших до самых незначительных и низких, креатуры бонапартистской банды. Что касается республиканцев и революционеров, то множество последних сослали и посадили в тюрьмы, а первых изгнали из Франции, оставив внутри страны только наиболее безобидных, наименее решительных и убежденных, самых глупых или же таких, которые так или иначе согласились продаться. Вот какими средствами им удалось овладеть страной и притеснять ее более двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. При этом, как я уже отмечал, началом бонапартизма нужно считать не декабрь, а июнь, а истинными его основателями — г-на Жюля Фавра и его друзей, буржуазных республиканцев Учредительного и Законодательного собраний.
Надо быть справедливым в отношении всех, даже бонапартистов. Это, конечно, мошенники, но мошенники очень практичные. Повторяю еще раз, они сознательно и намеренно пользовались средствами, ведущими к намеченной цели, и в этом отношении они оказались гораздо выше республиканцев, которые в настоящее время делают вид, будто они управляют Францией. Даже теперь, после их поражения, бонапартисты кажутся выше и гораздо сильнее, чем все эти республиканцы, которые заняли их места. И теперь не республиканцы, а они управляют Францией. Убедившись в великодушии правительства Национальной обороны, видя повсюду вместо Революции, которая так их ужасала, правительственную Реакцию, встречая во всех сферах республиканской администрации своих старых друзей, соучастников, неразрывно связанных с ними солидарностью в подлости и преступлении, о чем я уже говорил и к чему я еще вернусь, и имея в своих руках страшное орудие, все это огромное богатство, накопленное двадцатилетним грабежом, бонапартисты решительно подняли голову.
Их скрытое, но могучее воздействие, в тысячу раз более сильное, чем влияние коллективного короля Ивто, правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты, Patrie, Constitutionnel, Pays, Peuple г-на Дювернуа, Liberte г-на Эмиля де Жирардена и многие другие, продолжают выходить. Они поносят республиканское правительство и открыто разглагольствуют, без стыда и страха, как будто они не подкупленные изменники, развратители, предатели и могильщики Франции. К г-ну Эмилю де Жирардену, умолкнувшему было в первые сентябрьские дни, вновь вернулся голос, цинизм и его несравненное красноречие. Как и в 1848 году, он великодушно предлагает республиканскому правительству каждый день по новой идее. Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента, как он убедился, что и его личность, и его карман останутся невредимы, он успокоился и снова чувствует твердую почву под ногами. «Только установите Республику, — говорит он, — и я не замедлю предложить вам десятки плодотворнейших, прекрасных политических, экономических и философских реформ». Имперские газеты открыто проповедуют реакцию в пользу империи. Иезуитские органы вновь начали говорить о благодеяниях религии.
Козни бонапартистов не ограничиваются пропагандой в прессе. Они имеют большое влияние в деревне и в городе тоже. В деревне, пользуясь поддержкой многих крупных и средних землевладельцев, кюре и старых муниципалитетов империи, бережно сохраненных республиканским правительством и находящихся под их покровительством, они проповедуют более страстно, чем когда-либо, ненависть к Республике и любовь к империи. Их пропаганда отвращает крестьян от всякого участия в Национальной обороне и советует им, наоборот, хорошо принимать пруссаков, этих новых союзников императора. В городах, опираясь на бюро префектур и субпрефектур, если не на самих префектов и субпрефектов, на судей империи, если не на товарищей прокурора и прокуроров республики, на генералов и почти на всех высших офицеров армии, если не на солдат, хотя и патриотов, но связанных старой дисциплиной, на большую часть муниципалитетов, на огромное количество крупных и мелких коммерсантов, промышленников, землевладельцев и лавочников, находя себе опору даже в массе буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых и даже антиреволюционных, которые, направляя свою энергию только против народа, бессознательно и вопреки желанию вынуждены служить бонапартизму; встречая себе поддержку во всех этих элементах неосознанной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, всякое стихийное и организованное действие народных сил и безоговорочно отдают пруссакам города и деревни, а через пруссаков главе своей банды, императору. Наконец, куда же больше, они сдают пруссакам крепости и армии Франции; доказательство — постыдная капитуляция Сезана, Страсбурга и Руана. Они убивают Францию.
Могло ли и должно ли было все это переносить правительство Национальной обороны? Мне кажется, что на этот вопрос может быть только один ответ: нет, тысячу раз нет! Его первым и самым священным долгом, с точки зрения спасения Франции, было с корнем вырвать заговор бонапартистов, прекратить их вредные действия. Но как это сделать? Было только одно средство: это прежде всего арестовать и посадить в тюрьму их всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с императрицы Евгении и ее двора, всех высших военных и гражданских чиновников, сенаторов, государственных советников, депутатов-бонапартистов, генералов, полковников, капитанов, если потребуется, архиепископов и епископов, префектов, субпрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и судебный корпус, не забыв и полицию, всех собственников, явно преданных империи, — одним словом, всех тех, кто составляет бонапартистскую банду.
Были ли возможны такие массовые аресты? Ничего не могло быть легче. Правительству Национальной обороны и его представителям в провинции стоило только сделать знак, рекомендуя при этом населению никому не приносить вреда, и можно было быть уверенным, что в продолжение немногих дней без особого насилия и без всякого кровопролития огромное большинство бонапартистов, особенно людей богатых, влиятельных, известных, были бы арестованы по всей Франции и заключены в тюрьмы. Разве население департаментов не арестовало многих по своей собственной инициативе в первой половине сентября, и, заметьте, не причинив никому зла, самым деликатным и гуманным образом?
Жестокость и зверство больше не свойственны французскому народу, особенно городскому пролетариату Франции. Если и остались некоторые следы, то частично у крестьян, но особенно в классе лавочников, настолько же тупом, насколько и многочисленном. О, они действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 года*, и многие факты свидетельствуют о том, что их натура не изменилась и до сего дня. Жестоким делает лавочника не только его безнадежная тупость и подлость, но и его трусость и ненасытная жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, за риск, которому был подвергнут его кошелек, составляющий наряду с его непомерным тщеславием самое чувствительное место его существа. Но он мстит только тогда, когда для него самого нет ни малейшей опасности. О, тогда уж он не знает жалости!
* Вот в каких выражениях г-н Луи Блан описывает следующий день после победы, одержанной в июне буржуазной национальной гвардией над парижскими рабочими:
«Трудно представить себе положение и вид Парижа в часы, непосредственно предшествовавшие этой неслыханной драме и сразу после ее завершения. Как только было объявлено осадное положение, тотчас же полицейские комиссары отправились по всем направлениям, приказывая прохожим расходиться по домам. И горе тому, кто, не дожидаясь нового постановления, показывался на пороге своего дома! Если декрет застал вас одетым как буржуа далеко от вашего дома, вас препровождали обратно под конвоем и предписывали не выходить больше. Арестовывали женщин, подозревая, что они переносят вести в своих волосах, и искали патроны под подкладкой фиакров. Все давало повод к подозрению. В гробах мог быть порох: и трупы на пути к вечному успокоению подвергались обыску. Питье, приготовленное для солдат (разумеется, Национальной гвардии), могло быть отравлено: из предосторожности арестовывали бедных продавцов лимонада, и пятнадцатилетние маркитантки внушали страх. Гражданам запрещалось показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни: всюду чудились шпионаж и убийство. Колеблющийся свет лампы за стеклом, отражение лунного света на черепице крыши были достаточны, чтобы вызвать ужас. Оплакивать исчезновение мятежников, смерть близких людей — ничто не могло пройти безнаказанно. Одну молодую девушку расстреляли за то, что она щипала корпию в лазарете мятежников, может быть, для своего любимого, для мужа, для отца!
В продолжение нескольких дней Париж имел вид города, взятого приступом. Множество домов, обращенных в развалины или изрешеченных ядрами пушек, ясно свидетельствовали о силе сопротивления доведенного до отчаяния народа. Улицы пересекались рядами буржуа в мундирах; растерянные патрули маршировали по мостовой.
Нужно ли говорить о репрессиях?
«Рабочие! И все вы, поднявшие оружие против Республики, в последний раз, во имя всего того, что дорого и свято для людей, сложите ваше оружие! Национальное собрание, вся нация просит вас. Вам говорят, что вас ожидает жестокая кара: так говорят ваши и наши враги! Идите к нам, идите как раскаявшиеся братья, подчинившиеся закону, и объятия Республики готовы принять вас».
Вот прокламация, с которой обратился 26 июня генерал Кавеньяк к мятежникам. В другой прокламации того же дня, обращенной к Национальной гвардии и армии, он говорил: «В Париже я вижу победителей и побежденных. Но пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь увидеть среди них жертвы!»
Наверное, никогда в подобный момент не произносились более прекрасные слова! Но как это обещание было выполнено? Боже правый!
...Во многих местах репрессии принимали дикий характер. Так, в саду Тюильри пленников, брошенных в подземелья у воды, расстреливали наугад, просовывая ружья в отверстия; так же наскоро были расстреляны заключенные в долине Гренель на кладбище Монпарнас, на Монмартре, во дворе замка Клюни, в монастыре св. Бенедикта и во многих других местах... наконец, после завершения борьбы над опустошенным Парижем воцарился унизительный террор...
...Еще одна подробность завершит картину.
3-го июля множество пленников вывели из подвалов Военной школы, чтобы отправить в полицейскую префектуру, а оттуда в форты. Их туго связали веревками по четверо по рукам. Затем, поскольку эти несчастные, измученные голодом, шли с трудом, перед ними поставили миски с похлебкой. Будучи связаны по рукам, они были принуждены ложиться на живот и ползти, как животные, к мискам при взрывах хохота конвойных офицеров, которые называли это социализмом на практике! Я знаю это от одного из тех, кто прошел через эту пытку» (Histoire de la Revolution de 1848, par Louis Blanc, t. II)*
Вот она, буржуазная гуманность, что же касается правосудия буржуазных республиканцев, то, как указано выше, оно проявилось в ссылке на каторгу без суда, под предлогом всеобщей безопасности, 4 348 граждан из 15 000 арестованных граждан.
Кто знает французских рабочих, тому известно, что если где и сохранились истинно гуманные чувства, правда, значительно ослабленные и искаженные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной притворной чувствительностью, то это именно среди них. Это единственный класс современного общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, иногда слишком великодушен и слишком незлопамятен, оставляя без возмездия ужасные преступления и гнусные измены, жертвой которых ему так часто приходилось быть. Он неспособен на жестокость. Но в то же время у него есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели, есть здравый смысл, подсказывающий ему, что если он хочет положить конец злу, то нужно прежде всего арестовать и обезвредить злодеев. Ясно, что Францию предали, надо было не допустить, чтобы предатели довели свое дело до конца. Вот почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьму бонапартистов.
Правительство Национальной обороны повсюду их освободило. Кто был не прав, рабочие или правительство? Без сомнения, последнее. Выпуская на свободу бонапартистов, оно не только было не право, оно совершало преступление. Почему уж было не освободить заодно всех убийц, воров и всевозможных преступников, которые содержатся во французских тюрьмах? В чем различие между ними и бонапартистами? Я не вижу никакого, а если оно и есть, то только в пользу обычных преступников и, безусловно, против бонапартистов. Первые грабили и убивали индивидов, нападали на индивидов, причиняли вред индивидам. Часть последних совершила буквально те же преступления, а все вместе они грабили, насиловали, бесчестили, убивали, предавали и продавали Францию, целый народ. Какое из преступлений больше? Несомненно то, что совершили бонапартисты.
Разве правительство Национальной обороны причинило бы Франции больше зла, если бы освободило всех преступников, содержащихся в тюрьмах и работающих на каторге, чем ограждая свободу и собственность бонапартистов и предоставляя им беспрепятственно довершить разорение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен, даже несколько тысяч отдельных лиц, — пруссаки убивают ежедневно гораздо больше,— потом они скоро опять были бы взяты и заключены в тюрьмы самим же народом. Бонапартисты убивают народ, и если и дальше все пойдет так же, то вскоре весь народ, вся Франция будет посажена в тюрьму.
Но как арестовать и держать в тюрьмах столько людей без всякого суда? О, пусть это вас не беспокоит! Как ни мало, но все же найдется во Франции достаточное количество неподкупных судей, и им не будет стоить никакого труда, порывшись в прошлых делах служителей Наполеона III, приговорить три четверти к каторге, а многих из них — даже к смерти, просто применив к ним, и без всякой особенно исключительной строгости, уголовный кодекс.
Притом, разве сами бонапартисты не подали примера? Разве во время и после декабрьского переворота они не арестовали и не посадили в тюрьмы более 26 000 и не отправили в Алжир и Кайенну более 13 000 граждан-патриотов? Мне возразят, что им позволительно было поступать таким образом, потому что они — бонапартисты, т. е. люди без веры и без убеждений, разбойники; но что республиканцы, борющиеся во имя закона и торжества принципа справедливости, не должны и не могут попирать их основные и первейшие условия. Тогда я приведу другой пример.
В 1848 г., после вашей июньской победы вы, господа буржуазные республиканцы, вы, которые проявляете такую щепетильность в вопросе о правосудии, потому что теперь речь идет о применении его к бонапартистам, т. е. к людям, которые по своему происхождению, воспитанию, привычкам, положению в обществе и по своему отношению к социальному вопросу, т. е. к вопросу об освобождении пролетариата, принадлежат вашему классу, суть ваши братья; так вот, после победы, одержанной вами в июне над парижскими рабочими, Национальное собрание, в котором заседали и вы, г-н Жюль Фавр, и вы, г-н Кремье, и в котором по крайней мере вы, г-н Жюль Фавр, были тогда вместе с г-ном Паскалем Дюпра, вашим единомышленником, одним из самых красноречивых сторонников яростной реакции, — это собрание буржуазных республиканцев ведь не страдало от того, что три дня подряд рассвирепевшая буржуазия расстреливала без всякого суда сотни, а, быть может, и тысячи безоружных рабочих? И сразу же после этого разве не благодаря его попустительству были без всякого суда, просто ради общественной безопасности сосланы на галеры 15 000 рабочих? А потом, после нескольких месяцев, в течение которых эти несчастные тщетно взывали к правосудию, во имя которого так энергично вы ратуете теперь в надежде, что этими фразами вам удастся замаскировать ваше потворство реакции, разве не то же самое собрание буржуазных республиканцев, имея во главе все вас же, г-н Жюль Фавр, допустило приговорить 4 348 человек к высылке, опять без суда и все ради той же всеобщей безопасности? Оставьте, все вы не кто иные, как гнусные лицемеры!
Как случилось, что г-н Жюль Фавр не нашел в себе и не счел нужным употребить против бонапартистов немного той отважной энергии, немного той безжалостной жестокости, которые он так широко проявил в июне 1848 года, когда дело шло о наказании рабочих-социалистов? Или он думает, что рабочие, требующие своего права на жизнь, на существование в человеческих условиях, требующие с оружием в руках справедливости, равной для всех, более виновны, чем бонапартисты, губящие Францию?
Ну да, совершенно очевидно, что его мысль именно такова, только признаться в ней откровенно даже самому себе решится не всякий. Этим всепоглощающим буржуазным инстинктом проникнуты все декреты правительства Национальной обороны, как и все акты большинства его провинциальных представителей: генеральных комиссаров, префектов, субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров республики, которые, принадлежа или к сословию адвокатов, или к республиканской прессе, представляют собою, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих горячих патриотов, а также по исторически сложившемуся мнению г-на Жюля Фавра, социальная революция представляет для Франции несравненно большую опасность, нежели само нашествие чужеземцев. Я согласен верить, что хотя и не все, но во всяком случае значительная часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но, с другой стороны, я так же и даже в большей мере верю в то, что еще большее число их предпочло бы скорее видеть Францию под временным игом пруссаков, чем быть обязанным ее спасением поистине народной революции, которая при этом неизбежно разрушила бы экономическое и политическое господство их класса. Неизбежным следствием подобного образа мыслей является их возмутительная, чрезмерная снисходительность к многочисленным и, к сожалению, все таким же сильным сторонникам бонапартистского предательства и их пристрастная суровость, их неумолимые гонения на революционных социалистов, представителей тех рабочих классов, которые одни теперь всерьез озабочены освобождением страны.
Очевидно, что не праздные опасения нарушить справедливость и правосудие, но боязнь вызвать и поддержать социальную революцию мешает правительству подавить открытый заговор бонапартистов. Иначе как объяснить то, что оно ничего не предприняло даже 4 сентября? Возможно ли было ему хотя одну минуту сомневаться, ему, дерзнувшему взять на себя страшную ответственность за спасение Франции, сомневаться в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам по отношению к подлым сторонникам режима, который не только вверг Францию в пропасть, но и теперь усиленно старается парализовать все ее попытки к самозащите в надежде восстановить императорский престол при помощи и под покровительством пруссаков?
Члены правительства Национальной обороны ненавидят революцию. Пусть так. Но если доказано, если с каждым днем делается все очевиднее, что при том бедственном положении, в котором находится Франция, не остается иной альтернативы: или революция, или прусское иго, — то, разбирая этот вопрос только с точки зрения патриотизма, эти люди, установившие диктаторскую власть во имя спасения Франции, не будут ли преступниками, не будут ли сами изменниками своего отечества, если из ненависти к революции они предадут Францию или допустят предать ее пруссакам?
Вот уже скоро месяц, как императорский режим, разрушенный прусскими штыками, повергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же оно сделало для спасения Франции?
Таков истинный вопрос, единственно уместный вопрос. Что же касается вопроса о законности правительства Национальной обороны, или, точнее говоря, о том, имело ли оно право, я сказал бы даже, должно ли оно было принять власть из рук парижского народа после того как он, наконец, вышвырнул бонапартистскую нечисть, то этот вопрос мог быть поставлен на следующий день после постыдной Седанской катастрофы только сторонниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден был, конечно, в их числе*.
* Никто лучше г-на Эмиля де Жирардена не воплощает политическую и социальную безнравственность современной буржуазии. Шарлатан мысли под личиной серьезного мыслителя, под внешностью, обманувшею многих, даже самого Прудона, имевшего наивность поверить, что г-н де Жирарден мог по совести и искренно служить какой-нибудь идее, бывший редактор Presse и Liberte хуже, чем софист, это фальсификатор, извратитель всех принципов. Достаточно ему затронуть самую простую, самую непреложную, самую полезную идею, как она немедленно становится отравленной и лживой. Притом, он никогда ничего не придумывал, его дело только и состоит в том, чтобы фальсифицировать идеи других. В известных кругах на него смотрят как на самого ловкого создателя и редактора газет. Конечно, его натура эксплуататора и фальсификатора чужих идей, его наглое шарлатанство, должно быть, сделали его особенно пригодным к этому ремеслу! Вся сущность его натуры резюмируется в двух словах: реклама и шантаж. Всем своим состоянием он обязан журнализму, но пресса не могла бы обогатить человека, честно держащегося одного и того же убеждения, одного и того же знамени. Никто в такой степени, как он, не постиг искусства так ловко и вовремя менять свои убеждения и знамена. Поочередно он был орлеанистом, республиканцем и бонапартистом и сделался бы легитимистом или коммунистом, если бы понадобилось. Можно подумать, что он одарен крысиным инстинктом, потому что он всегда умел покинуть государственный корабль накануне кораблекрушения. Так, он повернулся спиной к правительству Луи-Филиппа за несколько месяцев до Февральской революции, но отнюдь не из-за побуждений, толкнувших Францию к ниспровержению июльского трона, а из-за своих собственных соображений, из которых двумя главными были, без сомнения, его тщеславие и любовь к наживе, потерпевшие крах. Сразу же после февраля он выдает себя за пламенного республиканца, более республиканского, чем вчерашние республиканцы; он предлагает свои идеи и самого себя; каждый день по идее, разумеется, украденной у кого-нибудь, но приготовленной и приправленной самим г-ном Эмилем де Жирарденом так, чтобы ею мог отравиться всякий, кто воспользуется ею из его рук; кажущаяся правдивость на фоне бесконечной лжи и его личность, несущая эту ложь, а с нею утрату доверия и крушение всех дел, которых она касается. Идеи и личность были отвергнуты народным презрением. Тогда г-н де Жирарден делается заклятым врагом республики. Никто так зло не издевался над нею, никто так усердно не способствовал, по крайней мере в своих помыслах, ее падению. Он не замедлил сделаться одним из самых деятельных и самых пронырливых агентов Бонапарта. Этот журналист и этот государственный деятель были созданы друг для друга. Наполеон III осуществил в действительности все то, о чем мечтал г-н Эмиль де Жирарден. Это был сильный человек, умевший жонглировать, подобно Э. де Жирардену, всеми принципами и одаренный достаточно непосредственной натурой, чтобы уметь подняться над всеми напрасными угрызениями совести, над всеми узкими и смешными предрассудками честности, деликатности, чести, личной и общественной нравственности, над всеми гуманными чувствами, которые только мешают политике; одним словом, это был человек своей эпохи, явно призванный править миром. В первые дни после государственного переворота было что-то вроде легкого облачка между августейшим государем и августейшим журналистом. Но это было не что иное, как ссора влюбленных, а никак не разногласие в принципах. Г-н Эмиль де Жирарден счел себя недостаточно вознагражденным. Он, несомненно, очень любит деньги, но ему еще нужны почести и причастность к власти. Вот чего Наполеон III, при всем своем желании, никогда не мог ему предоставить. Всегда около него был какой-нибудь Морни, какой-нибудь Флери, какой-нибудь Бийо, какой-нибудь Руэ, которые мешали этому. Так что только в конце своего правления он мог пожаловать г-ну Эмилю де Жирардену сан сенатора империи. Если бы Эмиль Оливье, сердечный друг, приемный сын и в некотором роде креатура г-на Эмиля де Жирардена, не пал так быстро, мы увидели бы, конечно, великого журналиста министром. Г-н Эмиль де Жирарден был одним из основных создателей министерства Оливье. С того времени его политическое влияние все возрастало. Это он был вдохновителем и отчасти автором двух последних политических актов императора, которые погубили Францию: плебисцита и войны. С этого времени поклонник Наполеона III, друг генерала Прима в Испании, духовный отец Эмиля Оливье и сенатор империи, г-н Эмиль де Жирарден почувствовал себя в конце концов слишком великим, чтобы продолжать свое ремесло журналиста. Он оставил редакцию Liberte своему племяннику и ученику, верному пропагандисту своих идей, г-ну Детруайя; и, подобно молодой девушке, готовящейся к первому причастию, предался созерцательному настроению, чтобы принять со всем подобающим достоинством эту так давно желанную власть, которая, наконец, готова была упасть в его объятия. Какое горькое разочарование! На этот раз, лишившись своего обычного инстинкта, г-н Эмиль де Жирарден совсем не почувствовал, что империя рушится и что именно его внушения и советы толкнули ее в пропасть. Сменить взгляды уже было поздно.
Падая вместе с империей, г-н де Жирарден низвергся с высоты своих честолюбивых мечтаний в тот самый момент, когда они, казалось, были ближе всего к осуществлению. Он упал плашмя и уже больше не поднялся. Начиная с 4 сентября он употребляет всевозможные старания, пуская в ход все свои старые приемы, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Не прошло и недели, как его племянник, новый редактор Liberte, объявляет его первым государственным деятелем Франции и Европы. Но все напрасно! Никто не читает Liberte, а у Франции слишком много других дел, чтобы заниматься величием г-на Эмиля де Жирардена. На этот раз он умер, и дай Бог, чтобы вместе с ним умерло современное шарлатанство прессы, достигшее в его лице своего высшего расцвета.
Если бы момент не был так ужасен, можно было бы хорошо посмеяться над необычайной наглостью этих людей. Поистине, они перещеголяли Робера Макера, духовного главу своей церкви, даже и самого Наполеона III, их явного главу.
Подумайте! Они убили Республику и возвели на трон известными средствами достойного императора. Затем в продолжение двадцати лет подряд они были добровольными и своекорыстными орудиями самых циничных правонарушений, систематически уродовали, отравляли и развращали Францию, сея повсюду невежество, и в конце концов навлекли на эту несчастную жертву своей алчности и постыдного тщеславия бедствия, превосходящие по своим размерам все, что может нарисовать самое пессимистическое воображение. Застигнутые этой ужасной катастрофой, вызванной их стараниями, раздавленные угрызениями совести, стыдом, опасаясь народного возмездия, тысячу раз заслуженного, они должны были бы провалиться сквозь землю — не так ли? — или, по крайней мере, сбежать, подобно своему господину, под знамя пруссаков, которое только и могло бы прикрыть их низость. Как бы не так! Уверившись в преступной снисходительности правительства Национальной обороны, они остались в Париже или рассеялись по всей Франции, громко понося правительство, объявляя его незаконным именем прав народа, именем всеобщего избирательного права.
Их расчет верен. Раз падение Наполеона III стало бесповоротно свершившимся фактом, то нет другого средства снова вернуть его во Францию, кроме решительной победы пруссаков. Но чтобы обеспечить и ускорить эту победу, нужно парализовать все патриотические и действительно революционные усилия Франции, истребить до последнего все средства защиты; а для достижения этой цели кратчайший и самый верный путь — это немедленный созыв Учредительного собрания. Я докажу это в дальнейшем.
Но сначала я считаю нужным доказать, что пруссаки могут и должны желать возвращения Наполеона III на французский престол.
РУССКИЙ АЛЬЯНС И РУСОФОБИЯ НЕМЦЕВ
Как ни победно положение графа Бисмарка и его государя Вильгельма I, но оно далеко не из легких. Их цель ясна: это наполовину насильственное, наполовину добровольное объединение всех германских государств под прусским королевским скипетром, который скоро обратится в скипетр императорский; иными словами, их цель — основать в сердце Европы могущественнейшую империю. Всего каких-нибудь пять лет назад из пяти великих держав Европы на Пруссию смотрели как на последнюю. Теперь она хочет сделаться и, без сомнения, скоро сделается первой. Берегись тогда независимость и свобода Европы, особенно маленьких государств, которые имеют несчастье включать в себя германское или бывшее германское население, например, фламандцев! Аппетит немецкого буржуа так же свиреп, как велико его раболепство, и, опираясь на этот патриотический аппетит и на это совершенно немецкое раболепство, граф Бисмарк, будучи человеком не очень разборчивым в средствах и слишком государственным человеком, чтобы щадить кровь народов и беречь их кошелек, свободу и права, вполне способен в интересах своего хозяина приняться за осуществление мечты Карла Пятого.
Часть громадной задачи, взятой им на себя, завершена. Благодаря соучастию Наполеона III, которого он одурачил, и благодаря союзу с императором Александром II, которого он одурачит, ему удалось уже раздавить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении угрозой вторжения своего верного союзника, России.
Что же касается империи царя, то со времени раздела Польши и именно благодаря этому разделу она стала в зависимое положение по отношению к прусскому королевству, как и это последнее по отношению к Всероссийской империи. Они не могут начать войну между собой, не освободив доставшихся им польских провинций, чего они никак не согласятся допустить, потому что обладание этими провинциями составляет для каждого из них существенное условие его могущества как государства. Не имея таким образом возможности вступать в войну друг с другом, они nolens-volens должны быть близкими союзниками. Достаточно Польше шевельнуться, как тотчас же Российская империя и Прусское королевство будут обязаны испытывать друг к другу самые нежные чувства. Эта вынужденная солидарность есть роковое, зачастую невыгодное и всегда тягостное следствие разбоя, совершенного ими обоими против благородной и несчастной Польши. Ведь не надо думать, что русские, даже официальные лица, любят пруссаков и что пруссаки обожают русских. Напротив, они всем сердцем, глубоко ненавидят друг друга. Но как два разбойника, связанные между собой общим преступлением, они вынуждены идти рука об руку и помогать друг другу. Вот источник трогательной нежности, соединяющей два двора, петербургский и берлинский, которую граф Бисмарк никогда не забывает поддерживать скромными подарками, например, в виде нескольких несчастных польских патриотов, выдаваемых время от времени варшавским и виленским палачам.
Однако на горизонте этой безоблачной дружбы появляется черная точка: это вопрос о балтийских провинциях. Как известно, эти провинции не являются ни русскими, ни немецкими. Они латышские или финские; немецкое население, состоящее из дворянства и буржуазии, составляет там самое незначительное меньшинство. Эти провинции прежде принадлежали Польше, потом Швеции, затем они были завоеваны Россией. Самое удачное решение для них, с точки зрения народа, — а я другой не признаю — по-моему, было бы их возвращение вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но в федеративный, очень тесный союз с ней, в качестве членов Скандинавской федерации, долженствующей включить в себя Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть Шлезвига, пусть не прогневаются гг. немцы! Это было бы справедливо, это было бы естественно, а этих двух доводов совершенно достаточно, чтобы рассердить немцев. Это положило бы, наконец, спасительный предел их морским притязаниям. Русским хочется русифицировать эти провинции, немцам — онемечить. И те и другие не правы. Огромное большинство населения, одинаково ненавидящее немцев и русских, хочет оставаться тем, что оно есть, т. е. финским и латышским, но оно сможет добиться уважения своей автономии и права быть самим собой только в Скандинавской конфедерации.
Но, как я уже сказал, это вовсе не согласуется с патриотическими вожделениями немцев. С некоторых пор этим вопросом очень интересуются в Германии. Причиной послужили гонения русского правительства на протестантское духовенство; в этих провинциях оно немецкое.
Эти гонения гнусны, как гнусны все проявления какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского. Однако они не превосходят тех, которые прусское правительство совершает ежедневно в прусско-польских провинциях, и все же та же самая немецкая общественность воздерживается протестовать против прусского деспотизма. Из всего этого следует, что для немцев все дело совсем не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они очень хотят иметь эти провинции, которые действительно были бы для них очень полезны с точки зрения их морского могущества на Балтике, и я не сомневаюсь, что Бисмарк лелеет заветную мечту овладеть ими рано или поздно, тем или иным способом. Вот та черная точка, которая возникла в отношениях между Россией и Пруссией. Но пока этого еще недостаточно, чтобы разъединить их. Они слишком нуждаются друг в друге. Пруссию удерживает от разрыва опасение, что она не найдет для себя в Европе другого союзника, потому что все другие государства, не исключая даже Англии, напуганные ее притязаниями, которые скоро не будут иметь предела, выступают или рано или поздно выступят против нее. Итак, Пруссия поостережется сейчас поднять вопрос, могущий поссорить ее с ее единственным другом, Россией. Ей будет нужна ее помощь или, по крайней мере, ее нейтралитет до тех пор, пока она не уничтожит совершенно или не ослабит по крайней мере лет на двадцать могущества Франции; пока не разрушит Австрийскую империю и не присоединит немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландию и всю Данию. Обладание двумя последними королевствами необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет неизбежным следствием ее победы над Францией, если только эта победа будет полной и окончательной. Но все это, даже при самых благоприятных для Пруссии обстоятельствах, не сможет осуществиться сразу. Выполнение этих грандиозных проектов займет немало лет, и в продолжение всего этого времени Пруссии более, чем когда-либо, будет нужна поддержка России; ибо можно предположить, что остальная часть Европы, какой бы трусливой и глупой она ни казалась теперь, кончит, однако, тем, что проснется, когда почувствует нож у горла, и не допустит без сопротивления и борьбы приготовить себя под прусско-германским соусом. Изолированная, хотя бы даже и победоносная Пруссия даже после разгрома Франции была бы слишком слаба, чтобы бороться с коалицией всех европейских государств. Если бы и Россия стала против нее, она бы погибла. Она не устояла бы даже при нейтралитете России. Ей необходима деятельная поддержка России, вроде той огромной услуги, которую она ей теперь оказывает, угрожая Австрии; так как вполне очевидно, что если бы Россия не угрожала Австрии, на другой же день после вступления немецких войск на французскую территорию Австрия перебросила бы свои войска в Пруссию, в Германию, покинутую солдатами, чтобы вернуть утраченное господство и получить блестящий реванш за Садову.
Г-н Бисмарк — слишком осторожный человек, чтобы при подобных обстоятельствах ссориться с Россией. Разумеется, во многих отношениях этот союз для него не особенно приятен. Он вредит его популярности в Германии. Но г-н Бисмарк — слишком государственный человек, чтобы чувствовать потребность в таком сентиментальном вздоре, как любовь и доверие народа. Но он знает, что эта любовь и доверие составляет временами большую силу, а сила в глазах такого политика, как он,— единственное, с чем должно считаться. Поэтому непопулярность союза с русскими все же его смущает. Без сомнения, ему приходится сожалеть, что единственный союз, возможный теперь для Германии, это именно такой, к которому Германия чувствует единодушное отвращение.
Когда я говорю о чувствах Германии, я, разумеется, имею в виду чувства буржуазии и пролетариата. Немецкое дворянство вовсе не питает ненависти к России, так как оно знает Россию только как империю, варварская политика и скорые расправы которой ему нравятся, соответствуют его инстинктам и его собственной натуре. Что касается покойного Николая I, то он вызывал у немецких дворян восхищение, настоящий культ. Этот германизированный Чингисхан или, лучше сказать, этот монголизированный немецкий принц был в их глазах высшим идеалом абсолютного владыки. Теперь они находят повторение того же идеала в своем короле-пугале, будущем германском императоре. Кто-кто, только не немецкое дворянство будет против союза с русскими. Наоборот, оно поддерживает его с удвоенной силой: прежде всего, из глубокой симпатии к деспотическим тенденциям русской политики, а также и потому, что ее король желает этого союза, а пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, эта воля для немецкого дворянства будет священна. Без сомнения, дело обстояло бы иначе, если бы король, вдруг перестав следовать традициям своей династии, объявил освобождение народов. Тогда и только тогда оно способно было бы восстать против него, что, впрочем, не представляло бы большой опасности, так как немецкое дворянство, несмотря на свою многочисленность, совершенно бессильно. Оно не имеет корней в стране и существует только по милости государства как бюрократическая и, в особенности, как военная каста. К тому же, так как совершенно невероятно, чтобы будущий германский император свободно и по собственному своему побуждению подписал бы когда-нибудь декрет об освобождении, то можно надеяться, что трогательное согласие, существующее между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда и оно до века пребудет верным рабом грубого деспота, готовым не за страх, а за совесть пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказания, какими бы гнусными и жестокими они ни были. Совершенно иначе обстоит дело с немецким пролетариатом. Я имею в виду главным образом городской пролетариат. Сельский пролетариат слишком подавлен, слишком принижен как своим необеспеченным положением, так и привычкой к подчинению собственникам-крестьянам; он слишком отравлен систематической ложью, политической и религиозной, которой его пичкают в начальной школе, чтобы самому понять свои чувства и желания. Его мысли редко заходят за безнадежно узкий горизонт его жалкого существования. Конечно, по своему положению и по натуре он социалист, но — сам того не подозревая. Одна только всеобщая социальная революция, более всеобщая и более широкая, чем та, о какой мечтают немецкие демократы-социалисты, будет в состоянии разбудить дьявола, сидящего в нем. Этот дьявол: инстинкт свободы, страстное стремление к равенству, святое возмущение, раз проснувшись в его груди, не уснет уже больше. Но до этого наивысшего момента еще далеко, а пока сельский пролетариат, по совету г-на пастора, останется покорным подданным своего короля, самым послушным орудием в руках любой власти, государственной или частной.
Что же касается крестьян-собственников, они в большинстве скорее склонны поддерживать королевскую политику, чем бороться с ней. Для этого есть много причин прежде всего, антагонизм деревень и городов, существующий в Германии так же, как и везде, и особенно усилившийся там с 1525 г., когда немецкая буржуазия во главе с Лютером и Меланхтоном так постыдно и притом во вред себе самой предала единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии; затем глубоко ретроградное воспитание, о котором я уже говорил и которое преобладает во всех германских школах, особенно в Пруссии; эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, свойственные всем крупным и мелким собственникам; наконец, относительная изолированность сельских трудящихся, которая так сильно задерживает проникновение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что немецкие крестьяне-собственники гораздо больше интересуются близко их касающимися общинными делами, чем общей политикой. А так как немецкой натуре вообще более свойственно послушание, чем сопротивление, благочестивая доверчивость, чем бунт, то немецкий крестьянин охотно вверяет мудрости высших, установленных от Бога властей все общие интересы своей страны. Без сомнения, наступит момент, когда и немец кий крестьянин проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой Прусско-германской империи, которая основывается теперь не без некоторого мистического и исторического влечения с его стороны, скажутся на нем тяжелыми налогами и экономическим разорением. Это произойдет, когда он увидит, как его маленькая собственность, отягощенная всевозможными долгами, закладными, налогами, растает и растечется сквозь пальцы, чтобы округлить богатство крупного землевладельца; это произойдет, когда для него станет очевидно, что в силу непреложного экономического закона он, в свою очередь, вовлекается в ряды пролетариата. Тогда он проснется и, наверное, также восстанет. Но этот момент еще далек, и, ожидая его, даже Германия, которую нельзя упрекнуть в недостатке терпения, может это терпение потерять.
Фабричный и городской пролетариат находится в совершенно ином положении. Хотя и прикрепленные, как крепостные, нуждою к определенной местности, где они трудятся, рабочие, не имея собственности, не имеют и местного интереса. Все их интересы имеют характер общий, даже не национальный, а международный, потому что вопрос о труде и плате за него — единственный, который прямо, реально, ежедневно и живо интересует их, но является центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических и религиозных, этот вопрос, вследствие роста могущества капитала в промышленности и торговле, все более и более принимает международный характер. Именно этим объясняется небывалый рост Международного товарищества рабочих, которое, будучи основано всего шесть лет тому назад, насчитывает уже в одной Европе более миллиона человек.
Немецкие рабочие не отстали от других. В особенности в последние годы они сделали значительные успехи, и, быть может, не далек момент, когда они выступят как могучая сплоченная сила. Правда, к намеченной цели они идут не тем путем, который мне кажется наилучшим. Так, вместо того, чтобы стремиться создать силу открыто революционную, отрицательную, разрушительную по отношению к государству, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, может иметь результатом полное и повсеместное освобождение трудящихся и труда, они увлекаются, или, скорее, позволяют своим вожакам увлекать себя мечтами о создании позитивной власти, об учреждении нового рабочего, народного государства (Volksta-at), непременно национального, патриотического и пангерманского, что ставит их в явное противоречие с основными принципами Международного товарищества и в очень двусмысленное положение по отношению к Прусско-германской империи, аристократической и буржуазной, о создании которой хлопочет Бисмарк. Они надеются, конечно, что путем сначала легальной агитации, а позднее путем более решительного и энергичного революционного движения им удастся завладеть этой империей и превратить ее в чисто народное государство. Эта политика, на которую я смотрю как на призрачную и губительную, придает их движению прежде всего характер реформаторский, а не революционный, что, впрочем, отчасти зависит также от прирожденных свойств немецкого народа, более склонного к медленным и постепенным реформам, чем к революции. Эта политика имеет, кроме того, еще один недостаток, являющийся, в сущности, лишь следствием основной ошибки: социалистическое движение германских трудящихся идет на буксире у буржуазной демократической партии. Позднее хотели даже отрицать само существование этого союза, но он был слишком очевидно подтвержден частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби как основы для возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии, а также различными попытками заключить соглашение на конгрессах в Нюрнберге и Штутгарте. Это во всех отношениях пагубный союз. Он не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, потому что партия демократов и буржуазных социалистов в Германии на самом деле слишком ничтожна, до смешного немощна, чтобы придать рабочим какую-то силу, но она во многом способствовала ограничению и извращению социалистической программы трудящихся Германии. Программа рабочих Австрии, например, пока они не дали себя вовлечь в социал-демократическую партию, была гораздо шире, значительно шире и более практичной, чем теперь.
Как бы то ни было, это скорей ошибка в системе, чем в инстинкте; инстинкт немецких рабочих явно революционен и с каждым днем будет становиться все более и более революционным. Интриганы, подкупленные г-ном Бисмарком, будут стараться напрасно: им никогда не удастся подчинить массу немецких трудящихся своей Прусско-германской империи. Впрочем, время заигрывания правительства с социализмом прошло. Имея отныне на своей стороне рабский и тупой энтузиазм всей германской буржуазии, равнодушие и пассивное подчинение, а отчасти и симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее только знака, чтобы уничтожить «чернь», и организованное могущество огромных военных сил, вдохновляемых и предводительствуемых тем же дворянством, г-н Бисмарк непременно захочет раздавить пролетариат и истребить до самого корня огнем и мечом эту гангрену, этот проклятый социальный вопрос, в котором сконцентрировался весь дух возмущения, оставшийся в людях и нациях. Как в Германии, так и повсюду будет вестись смертельная война с пролетариатом. Но, призывая рабочих всех стран хорошо подготовиться к борьбе, я заявляю, что эта война не страшит меня. Наоборот, все свои надежды я возлагаю на нее; она одна может вселить боевой дух в рабочие массы. Она сразу положит конец всем этим бесконечным и бесцельным рассуждениям fin's Blaue binein), которые усыпляют, истощают, не приводя ни к какому результату, и зажжет в груди европейского пролетариата ту страсть, без которой никогда не бывает победы. Что же касается окончательного торжества пролетариата, кто может в нем сомневаться? Справедливость, логика истории — за него.
Был в начале этой войны один момент, когда немецкий рабочий, несмотря на свою растущую с каждым днем революционность, начал колебаться. С одной стороны, он видел Наполеона III, с другой — Бисмарка с его королем-пугалом, первый означал вторжение, два последних — национальную оборону. Не было ли естественно, что, несмотря на все свое отвращение к этим двум представителям немецкого деспотизма, он на мгновение поверил, что его долг как немца стать под их знамя? Но это колебание было непродолжительным. Как только первые известия о победах немецких войск дошли до Германии, тотчас же стало очевидно, что французы не смогут перейти Рейн, особенно после сдачи Седана и памятного и окончательного падения Наполеона III; когда война Германии с Францией утратила значение законной защиты и приняла завоевательный характер, стала войной немецкого деспотизма против свободной Франции, чувства немецкого пролетариата сразу изменились и открыто обратились против этой войны, в нем пробудилась глубокая симпатия к французской республике. И здесь я спешу отдать справедливость вождям партии демократов-социалистов, всему руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые среди воплей официального мира и всей буржуазии Германии, взбесившейся от патриотизма, имели мужество громко заявить о священных правах Франции. Благородно, геройски исполнили они свой долг, потому что на самом деле требовалось геройское мужество, чтобы отважиться говорить человеческим языком среди всей этой рычащей буржуазной животности.
Разумеется, немецкие рабочие — решительные противники союза с Россией и русской политикой. Русские революционеры не должны ни удивляться, ни слишком огорчаться, если случается иногда, что немецкие трудящиеся на сам русский народ переносят ту глубокую и вполне законную ненависть, какую внушает им само существование и все политические акты Всероссийской империи, точно так же, как и немецкие рабочие не должны отныне слишком удивляться и слишком обижаться, если случится, что французский пролетариат поставит на одну доску официальную, бюрократическую, военно-дворянско-буржуазную Германию с Германией народной. Чтобы быть справедливыми и не слишком сетовать на это, немецкие рабочие должны судить по самим себе. Следуя примеру и указаниям многих своих вожаков, разве не смешивают они слишком часто в одном чувстве презрения и ненависти Российскую империю и русский народ, не подозревая о том, что этот народ — первая жертва и непримиримый враг империи, всегда готовый восстать против нее, как я неоднократно имел возможность доказывать это в моих речах и брошюрах и повторю здесь снова. Но немецкие рабочие могут возразить, что они основываются не на словах, что их суждения основаны на фактах и что все поступки русских в своих внешних проявлениях были поступками антигуманными, жестокими, варварскими, деспотичными. К сожалению, русским революционерам нечего ответить на это обвинение. Они должны признать, что в известном отношении немецкие рабочие правы: пока народ не свергнул и не разрушил своего государства, он более или менее солидарен с ним и, следовательно, ответствен за его поступки, совершаемые именем народа и его руками. Но если это соображение справедливо для России, то оно должно быть одинаково верно и для Германии.
Конечно, русская империя представляет и воплощает варварскую систему, антигуманную, подлую, презренную, гнусную. Можете применить к ней все прилагательные, какие только захотите; я ничего не буду иметь против. Друг русского народа, но отнюдь не патриот государства, всероссийской империи, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь ненавидел эту последнюю больше меня. Но желая быть справедливым прежде всего, я предложил бы немецким патриотам оглядеться повнимательнее вокруг себя, и, я уверен, они не замедлили бы убедиться, что, помимо прикрытой лицемерием приличной внешности, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были сколь-нибудь либеральнее, ни тем более гуманнее, чем всероссийская империя. Что же касается Пруссо-германской, или кнуто-германской империи, воздвигаемой ныне немецким патриотизмом на развалинах и в крови Франции, то последняя обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями. Посмотрим: при всей своей гнусности причиняла ли русская империя когда-либо Германии, Европе хоть сотую часть того зла, какую Германия причиняет теперь Франции и угрожает причинить всей Европе? Если кто и имеет право презирать Российскую империю и русских, так это поляки. Если русские и обесчестили себя когда-либо и творили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я обращаюсь к самим полякам: все русские армии, солдаты и офицеры, совершили ли они хоть десятую часть тех гнусных поступков, какие совершают теперь во Франции все германские армии, солдаты и офицеры? Поляки, повторяю, имеют право презирать Россию. Но немцы не имеют права, нет! если они в то же время не презирают самих себя! Посмотрим, причинила им когда-либо Россия какое-нибудь зло? Разве кто-нибудь из русских императоров мечтал о завоевании Германии? Разве он когда-нибудь отнял у нее провинцию? Разве русские войска приходили в Германию, чтобы уничтожить ее республику, которой, впрочем, никогда и не существовало, — и чтобы вернуть трон ее деспотам, которые никогда и не переставали править?
Только два раза с тех пор, как установились международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причиняли этой последней позитивное зло. Первый раз это был Петр III, который, только что поднявшись на трон, в 1761 г. спас Фридриха Великого и вместе с ним Прусское королевство от неминуемой гибели, приказав русской армии, сражавшейся до того вместе с австрийцами против Фридриха, примкнуть к нему и выступить против австрийцев. В другой раз это был Александр I, который в 1807 году спас Пруссию от полного уничтожения.
Вот неоспоримо две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если именно на это жалуются немцы, то я должен признать, что они тысячу раз правы, так как, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если не ковала сама, то, по крайней мере, помогала ковать цепи для Германии. Но если это не так, то мне трудно понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?
В 1813 году русские пришли в Германию как освободители и, что бы там ни говорили господа немцы, немало способствовали ее освобождению от ига Наполеона. Или, быть может, озлобление против русских ведет свое начало со времен императора Александра I за то, что он не допустил в 1814 г. прусского фельдмаршала Блюхера, вопреки его настойчивому требованию, разгромить Париж? Последнее обстоятельство служит доказательством, что у пруссаков всегда были одни и те же намерения и что по натуре они не изменились. Или они не прощают императору Александру I, что он почти принудил Людовика XVIII дать Франции конституцию вопреки желанию прусского короля и австрийского императора и удивил Европу и Францию, выказав себя, российского императора, более гуманным и более либеральным, чем два великих властелина Германии?
Может быть, немцы не могут простить России гнусного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это ни малейшего права, так как они получили добрую часть пирога. Конечно, этот раздел был преступлением. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, только один — русский, а немцев — двое: императрица Мария Терезия Австрийская и великий король Пруссии Фридрих П. Я даже мог бы сказать, что все трое были немцы, потому что императрица Екатерина II, гнусной памяти, была чистокровной немецкой принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не он ли предложил своей доброй кумушке из России также разделить и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши по праву принадлежит ему. Притом Прусское королевство выиграло от дележа гораздо больше, чем два других сообщника по разделу, так как его подлинное могущество началось с завоевания Силезии и этого раздела Польши.
Наконец, не ставят ли немцы в вину Российской империи жестокое, варварское, кровавое подавление двух польских революций, 1830 и 1863 годов? Но опять-таки они не имеют и на это ни малейшего права, потому что в 1830 г., как и в 1863 г., Пруссия была самой близкой соучастницей санкт-петербургского кабинета, любезной и верной поставщицей его палачей. Граф Бисмарк, канцлер и основатель будущей кнуто-германской империи, разве не считал своим приятным долгом выдавать Муравьевым и Бергам все польские головы, попадавшие ему в руки? И разве не те же прусские наместники, которые теперь во Франции проявляют свою гуманность и свой пангерманский либерализм, организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в Познанском великом герцогстве, подобно истым жандармам, которыми они и являются по своей натуре и пристрастиям, настоящую охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы предать их закованными в цепи русскому правительству? Когда в 1863 г. Франция, Англия и Австрия представили князю Горчакову свои протесты в защиту Польши, только одна Пруссия не захотела, да и не могла присоединиться к протесту, по той простой причине, что начиная с 1860 года все усилия ее дипломатии были направлены к тому, чтобы отговорить императора Александра II сделать хотя бы малейшую уступку полякам*.
* Когда посол Великобритании в Берлине, лорд Блумфилд, если не ошибаюсь в имени, предложил г-ну Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест западных правительств, г-н Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: «Как вы хотите, чтобы мы протестовали, когда мы вот уже три года то и дело повторяем России, чтобы она не делала никаких уступок Польше».
Из приведенных соображений с очевидностью следует, что немецкие патриоты не имеют ни малейшего права обращать свои упреки к Российской империи. Если она поет фальшиво, если ее голос отвратителен, то во всяком случае Пруссия, составляющая ныне ум, сердце и руку великой объединенной Германии, никогда не отказывала ей в услужливом аккомпанементе. Существует, правда, один упрек, последний.
«Россия, — говорят немцы, — оказывала с 1815 года до сего дня самое гибельное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия оставалась так долго разделенною, если она остается рабскою, то это именно вследствие этого рокового влияния».
Признаюсь, этот упрек всегда мне казался крайне нелепым, недобросовестным и недостойным великого народа; достоинство каждой нации, как и каждого индивида, состоит, по-моему, главным образом в том, что каждый берет на себя всю ответственность за свои поступки, не делая жалких усилий свалить свою вину на других. Разве не нелепы сетования взрослого парня, пришедшего со слезами жаловаться, что кто-то другой совратил его, вовлек в дурное дело? Ну, а что непозволительно мальчишке, тем более непростительно нации, и самое элементарное самоуважение должно было бы удержать ее от подобных жалоб*.
* Признаюсь, я был глубоко изумлен, найдя этот самый упрек в письме, адресованном в прошлом году г-ном Карлом Марксом, знаменитым главой немецких коммунистов, редакторам маленького русского листка, печатавшегося на русском языке в Женеве. К. Маркс утверждает, что, если Германия еще не организована демократически, то в этом всецело вина России. Он в высшей степени неверно судит об истории своей собственной страны, поскольку высказывает утверждение, легко опровергаемое не только историческими фактами, но и опытом всех времен и всех стран. Случалось ли когда-нибудь так, чтобы нация, стоящая на более низкой ступени цивилизации, смогла навязать или привить свои собственные принципы другой стране, несравненно более цивилизованной,— если только не путем завоевания? Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией. Поэтому возможность усвоения немцами каких-либо русских устоев совершенно невероятна, тогда как более чем вероятно, что Германия, наоборот, благодаря своему непосредственному соседству и неоспоримому перевесу своего политического, административного, юридического, промышленного, торгового, научного и социального развития, имела на Россию значительное идейное влияние, с чем охотно соглашаются и сами немцы, когда говорят не без гордости, что Россия обязана Германии всей той малой долей цивилизации, какая у нее имеется. К большому счастью для нас, для будущего России, эта цивилизация не проникла дальше официальной России, в народ. Но, действительно, мы обязаны немцам нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием, законченностью здания нашей империи, далее нашей августейшей династией.
Кто может сомневаться, что соседство великого Монголо-византийско-немецкого Эмира более по душе деспотам Германии, чем ее народам, что это соседство более способствует развитию ее коренного, сугубо национального, германского рабства, чем распространению либеральных и демократических идей, вынесенных из Франции? Германия развивалась бы гораздо быстрее в направлении равенства и свободы, если бы вместо русской империи имела своим соседом Северо-Американские Coединенные Штаты, например. Но ведь раньше у нее и была другая соседка, отделявшая ее от Московской империи. Это была Польша, правда, не демократическая, а дворянская, подобно феодальной Германии, также основанная на рабстве крестьян, но гораздо менее аристократическая, более либеральная, более просвещенная во всех отношениях, чем эта последняя. И что же? Германия, недовольная этим бурлящим соседством, так противоречащим ее привычкам к порядку, елейному низкопоклонству и верноподданнической зависимости, проглотила добрую половину ее, предоставив другую половину Московскому царству, всероссийской империи, тем самым и сделавшись с того времени ее непосредственной соседкой. А теперь она жалуется на это соседство! Смешно.
Россия также много бы выиграла, если бы вместо Германии имела бы своей соседкой на западе Францию, а на востоке вместо Китая — Северную Америку. Но революционные, или, как начинают их называть в Германии, русские анархисты слишком дорожат достоинством своего народа, чтобы свалить всю вину своего рабства на немцев или китайцев. А между тем они имеют гораздо более исторического права свалить ее как на тех, так и на других. Ведь известно, что монгольские орды, завоевавшие Россию, пришли от границ Китая. Известно, что более двух веков они держали ее под своим игом. Два столетия варварского ига, какое воспитание! К великому счастью, это воспитание почти не коснулось собственно русского народа, массы крестьян, которые и под татарским игом продолжали жить, придерживаясь своего обычного общинного права, не признавая и совершенно не считаясь с какой-либо иной политикой и юриспруденцией, как они живут и до сих пор. Но оно совершенно развратило дворянство, а также и значительную часть русского духовенства, и эти два привилегированных класса, одинаково жестокие, одинаково раболепные, можно считать подлинными основателями Московской империи. Известно, что эта империя была главным образом основана на порабощении народа, и русский народ, не отличающийся вовсе той прирожденной покорностью, которой в высшей степени одарен немецкий народ, никогда не переставал ненавидеть эту империю и восставать против нее. Он был и теперь остается единственным истинным революционным социалистом в России. Его бунты или, точнее, его революции (в 1612 г., 1667 г. и 1771 г.) часто угрожали самому существованию Московской империи, и я твердо убежден, что пройдет немного времени и новая народная социалистическая революция, на этот раз победоносная, сметет ее совсем с лица земли. Известно, что если московские цари, ставшие потом санкт-петербургскими императорами, до сих пор и торжествовали победу над этим упорным и страстным народным сопротивлением, то благодаря политической, административной, бюрократической и военной науке, заимствованной у немцев, которые, одарив нас столькими прекрасными вещами, не забыли принести с собой, не могли не принести не восточный, но протестантско-германский культ государя, лично воплощающего государственный разум, философию дворянского, буржуазного, военного и бюрократического раболепства, возведенного в систему. Это было, по-моему, величайшим несчастьем для России. Ибо восточное рабство, варварское, хищническое, оплот нашего дворянства и нашего духовенства, было очень жестоким, но совершенно естественным следствием неблагоприятных исторических обстоятельств, еще более неблагоприятного экономического и политического положения и глубокого невежества. Это рабство было естественным фактом, а не системой, и, как таковое, могло и должно было измениться под благотворным влиянием либеральных, демократических, социалистических и гуманитарных идей Запада. Оно действительно изменилось до такой степени, что — упомянем только наиболее характерные факты — с 1818 по 1825 год мы видели, как несколько сот дворян, цвет дворянства, принадлежащего к наиболее образованному и богатому классу, подготовили заговор, серьезно угрожавший императорскому деспотизму, с целью образовать на его обломках согласно желанию одних монархическо-либеральную конституцию или согласно желанию других, значительного большинства, федеративную и демократическую республику, основываясь в том и другом случае на полном освобождении крестьян с наделением их землею. С тех пор не было в России ни одного заговора, в котором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень богатая. С другой стороны, все знают, что по преимуществу сыновья наших священников, студенты академий и семинарий составляют в России священную фалангу революционной социалистической партии. Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неоспоримых фактов, которых даже их общеизвестной недобросовестности не удастся опровергнуть, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов-теологов, восстававших против государства и ратовавших за освобождение народа? И однако ни в дворянах, ни в теологах у них недостатка никогда не было. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать — отсутствие либеральных и демократических чувств в дворянстве, в духовенстве и, добавлю также, чтобы быть искренним до конца! — и в буржуазии Германии? А это потому, что раболепство, присущее всем этим почтенным классам, представителям немецкой цивилизации, возникнув как естественное следствие естественных же причин, стало системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и именно вследствие этого оно превратилось в неизлечимую болезнь. Можете ли вы вообразить себе немецкого бюрократа или же офицера немецкой армии, которые были бы способны составить заговор и восстать за свободу, за освобождение народов? Несомненно, нет. Недавно мы были свидетелями заговора офицеров и высших чиновников Ганновера против Бисмарка*, но с какой целью? Чтобы возвести на его трон короля-деспота, законного монарха. Ну, а бюрократия русская и русские офицеры насчитывают в своих рядах многих заговорщиков, борющихся за благо народа. Вот разница, и она всецело в пользу России. — Но если порабощающее действие немецкой цивилизации и не смогло окончательно развратить даже привилегированные и официальные сословия России, то все же оно постоянно оказывало неблагоприятное влияние на эти классы. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он не проникся этой цивилизацией точно так же, как не проникся и цивилизацией монголов.
В противовес всем этим фактам могут ли буржуазные немецкие патриоты указать хоть один, который бы доказывал гибельное влияние монголо-византийской официальной России на Германию? Подобная попытка оказалась бы совершенно тщетной, потому что русские никогда не приходили в Германию ни как победители, ни как учители, ни как администраторы, откуда следует, что если Германия и заимствовала что-либо у официальной России — что я решительно отрицаю, — то это могло быть сделано лишь по склонности и для собственного удовольствия.
Поистине, несравненно более соответствовало бы достоинству лучшего немецкого патриота и искреннего социалиста-демократа, каким несомненно является г-н Карл Маркс, и было бы гораздо полезнее для народа Германии, если бы вместо того, чтобы тешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии чужеземному влиянию, он постарался бы воспользоваться своей громадной эрудицией для доказательства, в соответствии со справедливостью и исторической истиной, что Германия сама произвела, воспитала и исторически развила в себе все элементы своего нынешнего рабства. Я с удовольствием предоставил бы ему выполнение такого труда, столь полезного и необходимого прежде всего с точки зрения эмансипации германского народа, труда, который, выйдя из-под его пера, опираясь на его удивительную эрудицию, превосходство которой я уже признавал, оказался бы, разумеется, несравненно более полным. Но так как я не надеюсь, чтобы он когда-либо счел удобным и необходимым сказать всю правду по этому вопросу, то я уж сам беру на себя труд доказать в этом письме, что рабство, преступления и настоящий позор сегодняшней Германии совершенно местного происхождения и являются следствием четырех великих исторических причин: дворянского феодализма, дух которого, далеко не побежденный, как во Франции, и доныне благополучно процветает в структуре современной Германии; абсолютизма монарха, санкционированного протестантизмом и через него возведенного в объект культа; упорного и хронического раболепства германской буржуазии и непоколебимого терпения народа. Наконец, пятая причина, впрочем, весьма близкая к первым четырем, это — зарождение и быстрое образование совершенно механического и совершенно антинационального могущества прусского государства.
В конце этого письма, бросив беглый взгляд на германско-славянский вопрос, я докажу, опираясь на неопровержимые исторические факты, что до 1866 года дипломатическое влияние России на Германию — а иного влияния никогда не было,— как в отношении ее внутреннего развития, так и в отношении ее территориального расширения, в большинстве случаев было равно нулю или почти нулю. В любом случае это влияние гораздо ничтожнее, чем воображали себе эти добропорядочные немецкие патриоты и сама русская дипломатия. И я докажу, что начиная с 1866 года Санкт-Петербургский кабинет в благодарность если не за материальную, то за моральную поддержку, оказанную ему Берлином в Крымскую войну, и более чем когда-либо зависимый от прусской политики, угрожая Австрии и Франции, в значительной мере содействовал осуществлению грандиозных проектов Графа Бисмарка, следовательно, окончательному построению великой Пруссо-германской империи, предстоящее установление которой увенчает, наконец, вожделенные желания немецких патриотов.
Подобно доктору Фаусту, эти достопочтенные патриоты преследовали две цели, две противоположные тенденции: одною из них было всемогущее национальное единство, другою — свобода. Желая примирить эти две несогласуемые вещи, они долго парализовали одну другой до тех пор, пока, наконец, на опыте не убедились в невозможности их согласовать и не решились пожертвовать одной ради другой. И вот таким образом на развалинах не свободы — свободны они не были никогда, — но их либеральных мечтаний они готовятся теперь воздвигнуть великую Пруссо-германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, свободно создадут сильную нацию, могущественное государство и рабский народ.
Пятьдесят лет кряду, начиная с 1815 и кончая 1866 годом, немецкая буржуазия питала по отношению к самой себе поразительную иллюзию: она считала себя либеральной, совсем не будучи таковой. В действительности же она утратила последние проблески инстинкта свободы еще во времена Меланхтона и Лютера, позволив им посредством религии подчинить себя абсолютной власти своих князей. Уже начиная с этой эпохи покорность и послушание обратились у нее в привычку, в сознательное выражение ее самых заветных убеждений и в результате привели к созданию суеверного культа всемогущества Государства. Бунтарское чувство, эта сатанинская гордость, отрицающая власть какого бы то ни было господина, бога или человека, — чувство, которым исключительно питается в человеке любовь к независимости и свободе, это чувство у немца не только отсутствует, но даже сама его возможность отталкивает, смущает и страшит его. Германская буржуазия не может жить без хозяина: у нее слишком велика потребность в почитании, обожании и подчинении кому угодно. Если это не король, император, ну что ж! тогда это будет коллективный монарх — Государство и все государственные чиновники, как это и было до сих пор во Франкфурте, Гамбурге, Бремене и Любеке, городах, которые носят название республиканских и свободных, отныне поступят во владение нового германского императора, не заметив даже, что они утратили свою свободу.
Немецкий буржуа, стало быть, недоволен не тем, что он должен подчиняться какому-то господину: это его привычка, вторая натура, религия, страсть, — а незначительностью, слабостью, относительной немощью того, кому он должен и хочет подчиняться. Немецкий буржуа, кроме того, обладает непомерной гордостью, присущей всем лакеям, которые переносят на себе важность, богатство, величие и могущество своего хозяина. Этим объясняется ретроспективный культ исторической и почти мифической фигуры германского императора, культ, зародившийся с 1815 года, одновременно с немецким псевдолиберализмом, который постоянно сопровождал его и должен был раньше или позже быть разрушен и задушен этим культом, как это недавно и произошло. Возьмите все немецкие патриотические песни, сочиненные после 1815 года; я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчествующих о новом мире, о мире всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни патриотов буржуа, начиная с пангерманского гимна Арндта. Какое чувство там преобладает? Любовь к свободе? Нет, это чувство национального величия и могущества. «Где немецкое отечество?» — спрашивается в гимне. Ответ: «Где слышен немецкий язык». Свобода мало вдохновляет этих певцов немецкого патриотизма, можно сказать, что они упоминают о ней из приличия. С искренним же пафосом и энтузиазмом они говорят только о единстве. И далее теперь какие аргументы приводят они, чтобы убедить сделаться немцами жителей Эльзаса и Лотарингии, нареченных французами Революцией и в теперешний столь ужасный для них момент чувствующих себя французами более чем когда-либо? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, материальное благополучие, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они даже не понимают, как они могли бы убедить других. Впрочем, они не решились бы зайти так далеко во лжи во время гласности, когда ложь становится делом трудным, если вообще возможным. Всем, и им в том числе, отлично известно, что ни одной из этих прекрасных вещей в Германии не существует и что Германия может сделаться великой кнуто-германской империей, лишь надолго отказавшись от них даже в мечтах, ибо действительность оказалась сегодня слишком пугающей и жестокой, чтобы в ней нашлись время и место для мечтаний.
А поскольку всех этих прекрасных человеческих вещей в действительности нет, то о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? Они говорят о прошлом величии Германской империи, о Гогенштауфенах и об императоре Барбароссе. Что они, с ума сошли, превратились в идиотов? Нет, они — немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но почему, черт возьми, они, эти добрые буржуа, эти превосходные немецкие патриоты, так почитают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Черпают ли они, подобно жителям итальянских городов, в XII, XIII, XIV и XV веках воспоминания о былом могуществе, о свободе, о разуме, о славе буржуазии? Были ли тогда буржуазия или, говоря вообще, немецкий народ менее, чем теперь, закрепощены, менее угнетены своими князьями-деспотами и своим спесивым дворянством? Нет, без сомнения, было гораздо хуже, чем теперь. Но что в таком случае хотят отыскать в прошедших веках эти немецкие ученые буржуа? Могущество своего хозяина. Это — честолюбие лакеев.
Видя, что сейчас происходит, сомневаться больше невозможно. Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше. Начиная с 1815 года и до наших дней, она желала только одного; но этого одного она добивалась со страстным, энергичным упорством, достойным лучшего применения. Она желала чувствовать себя под властью могучего господина, пусть он будет даже свирепый и жестокий деспот, лишь бы он давал ей в награду за ее необходимое рабство то, что она называет своим национальным величием, лишь бы он заставил во имя немецкой цивилизации трепетать все народы, включая и народ немецкий.
Мне возразят, что буржуазия всех стран выражает в данное время те же стремления, что, перепуганная, она повсюду спешит укрыться под покровительство военной диктатуры, своего последнего прибежища от все более и более угрожающих выступлений пролетариата. Повсюду она отказывается от своей свободы во имя спасения своего кошелька и отказывается от своего права, чтобы спасти привилегии. Буржуазный либерализм во всех странах существует лишь по имени и есть не что иное, как обман.
Да, это верно. Но, по крайней мере, итальянский, швейцарский, голландский, бельгийский, английский и французский буржуазный либерализм в прошлом действительно существовал, между тем как либерализма германской буржуазии никогда и не было. Вы не отыщете его следов ни до, ни после Реформации.
ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, наоборот, именно вследствие этого разрушительного действия на государство всегда благоприятна для пробуждения народной инициативы, а также для умственного, нравственного и даже материального развития народов. Причина этого весьма проста: необходимость, за отсутствием руководства свыше, самим устраивать свою судьбу нарушает в массе их бараньи сноровки, столь драгоценные для всех правительств и дающие последним возможность пасти и стричь народное стадо, как им заблагорассудится. Гражданская война нарушает животное однообразие их ежедневного, машинального существования, лишенного мысли, и, заставляя их призадуматься над междоусобными распрями князей или партий, оспаривающих друг у друга право притеснять и эксплуатировать их, приводит их чаще всего если не к сознательному, то по крайней мере к инстинктивному уяснению себе той глубокой истины, что права одних из них так же неосновательны, как и права других, и что их намерения одинаково неблаговидны. А как только одна дремавшая дотоле мысль пробудится, она неизбежно захватывает и все остальное. Народный ум приходит в движение, сбрасывает вековую неподвижность; нарушая границы бездумной веры, освобождаясь из-под ига традиционных и окаменелых представлений и понятий, занимавших у него место всякой мысли, он подвергает всех своих вчерашних кумиров строгой, страстной критике, направляемой его здравым смыслом и честной совестью, которые зачастую значат больше, чем научные истины. Так пробуждается народный ум. Вместе с умом в нем пробуждается и священный, сугубо человеческий инстинкт возмущения, источник всякого освобождения, и одновременно подымаются его нравственность и материальный уровень, братья-близнецы свободы. Эта столь благодетельная для народа свобода находит опору и черпает воодушевление в самой гражданской войне, которая, разъединяя его притеснителей, его эксплуататоров, его наставников и его господ, неизбежно уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа грызутся между собой, бедный народ, освободившись, по крайней мере отчасти, от однообразия общественного строя или, лучше сказать, от окаменелой системы анархии и беззакония, навязанных ему ненавистной властью под именем общественного строя, может немного перевести дух. К тому же каждая из враждебных партий, ослабленная разъединением и борьбой, нуждается в симпатии масс для победы над другой партией. За народом начинают ухаживать, как за любовницей, перед ним заискивают, ему льстят. Его забрасывают всевозможными обещаниями, и когда народ достаточно умен, чтобы не довольствоваться одними посулами, ему делают всевозможные реальные уступки, политические и материальные. И если тогда он не сумеет добыть себе свободу, то винить в этом должен себя самого. Таким путем, какой только что описан, или более или менее сходным с ним шло освобождение городских средневековых общин во всех странах Западной Европы. По тем приемам, с помощью которых они освобождались, и в особенности по тем политическим, духовным и социальным последствиям, которые они умели извлечь из своего освобождения, можно судить об их уме, о господствующих стремлениях и присущем им национальном темпераменте.
Так, уже в конце XI века мы застаем в Италии значительный расцвет ее муниципальных свобод, ее торговли и ее зарождающихся искусств. Итальянские города умеют извлекать выгоду из памятной борьбы императоров с папами, начатой с целью завоевания независимости. В этом же веке во Франции и в Англии достигает широкого распространения схоластическая философия, и как следствие этого первого пробуждения мысли в вере и первого неясно выраженного бунта разума против веры мы видим на юге Франции зарождение ереси вальденсов. В Германии же — ничего. Она трудится, молится, поет, строит свои храмы, высшее выражение своей грубой и наивной веры, и безропотно повинуется своим священникам, своим дворянам, своим принцам и своему императору, которые угнетают и грабят ее без всякого стыда и жалости.
В XII веке образуется великая лига независимых и свободных городов Италии, союз, организованный против императора и папы. Вместе с политической свободой естественно начинается пробуждение и бунт разума. Мы видим великого Арнольда Брешианского, сожженного в Риме за ересь в 1155 году. Во Франции сжигают Петра де Брюи и преследуют Абеляра; но что еще важнее, возникает истинно народная и революционная ересь альбигойцев, направленная против владычества папы, священников и феодальных сеньоров. Преследуемые, они бегут во Фландрию, Богемию, даже в Болгарию, но только не в Германию. В Англии король Генрих I вынужден подписать хартию, основание всех последующих свобод. Среди этого движения лишь одна верная Германия остается неподвижна и безгласна. Ни одной мысли, ни одного движения, которые бы указывали на пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два факта заслуживают быть отмеченными. Прежде всего, создание двух новых рыцарских орденов, ордена Тевтонских крестоносцев и ордена Ливонских меченосцев. На эти ордена была возложена миссия подготовить величие и могущество будущей кнуто-германской империи путем вооруженной пропаганды католицизма и германизма в Северной и Северо-Восточной Европе. Всем известен обычный и неизменный метод, который пускали в ход эти милые проповедники Христова Евангелия для обращения в христианство и германизации славянских, варварских и языческих народностей. Впрочем, это тот же самый метод, который их достойные преемники применяют сегодня, чтобы морализовать, цивилизовать и германизировать Францию; эти три разных глагола в устах и в мыслях немецких патриотов имеют одинаковый смысл. На практике же они означают обстоятельную its. массовую резню, пожары, грабеж, насилие, разорение одной части населения и порабощение остальной. В завоеванных странах вокруг окопанных лагерей этих вооруженных цивилизаторов формировались впоследствии немецкие города. В центре обосновывался епископ, непременно благословлявший все совершенные или предполагаемые набеги этих благородных разбойников; вместе с епископом появлялась целая свора священников, силой крестившая бедных язычников, избегнувших резни; затем этих рабов принуждали строить храмы. Влекомые стремлением к святости и славе, прибывали, наконец, добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло почтительные по отношению к дворянской спеси, падающие ниц перед всеми установленными властями, политическими и религиозными, одним словом, преклонявшиеся перед всем, что представляло собой какую-либо силу, но до крайности жестокие, преисполненные презрения и ненависти к побежденному местному населению. К этому еще нужно прибавить, что буржуазные выходцы соединяли с этими полезными, хотя и неблагородными качествами силу, ум, редкое упорство в труде и невероятную способность к росту и воинствующей экспансии. Все это, вместе взятое, делало этих трудолюбивых паразитов очень опасными для независимости и целостности национального характера даже в тех странах, где они водворились не по праву завоевания, но из милости, как, например, в Польше. Вот таким-то образом оказались германизированными в один прекрасный день Восточная и Западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского.— Другой немецкий факт, имевший место в этом веке,— это возрождение римского права, осуществленное, конечно, не по народной инициативе, но особой волей императоров, которые, покровительствуя и способствуя изучению Пандектов, составленных Юстинианом, заложили основы современного абсолютизма.
В XIII веке немецкая буржуазия, казалось, начинает, наконец, пробуждаться. Война гвельфов и гибеллинов, продолжавшаяся около столетия, внесла диссонанс в ее песни и мечты и, наконец, вывела ее из благочестивой летаргии. Начало было недурно. Следуя, несомненно, примеру итальянских городов, у которых были обширные торговые связи со всей Германией, более шестидесяти немецких городов образовывают торговую и по необходимости политическую грозную лигу, знаменитый Ганзейский союз.
Если бы немецкая буржуазия обладала инстинктом свободы, хотя бы зачаточным, единственно возможным в те отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и утвердить свое политическое могущество даже в XIII веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Притом политическое положение немецких городов в эту эпоху очень походило на положение итальянских городов, с которыми они были вдвойне связаны, как притязаниями Священной империи, так и более существенными торговыми отношениями.
Подобно республиканским городам Италии, немецкие города могли рассчитывать только на самих себя. Они не могли, как французские коммуны, опираться на возрастающее могущество монархической централизации; власть императоров, зависевшая гораздо больше от их личных способностей и от их личного влияния, чем от политических учреждений, и, следовательно, изменявшаяся вместе со сменой личностей, никогда не могла упрочиться и утвердиться в Германии. Притом, всегда занятые итальянскими делами и своей нескончаемой борьбой против пап, императоры проводили три четверти своего времени вне Германии. Вследствие этой двойной причины могущество императоров, всегда непрочное и оспариваемое, не могло представить из себя, подобно могуществу французских королей, серьезную и достаточную опору для освобождения коммун.
Немецкие города также не смогли, подобно английским общинам, вступить в союз с земельной аристократией против императорской власти, чтобы потребовать свою часть политической свободы; владетельные дома и все феодальное немецкое дворянство в противоположность английской аристократии всегда отличалось полным отсутствием политического чутья. Это был просто сброд грубых разбойников, жестоких, глупых, невежественных, любящих только жестокую и грабительскую войну, преданных разврату и пьянству. Они только и умели, что нападать на городских купцов на больших дорогах или же грабить сами города, когда чувствовали себя достаточно сильными для этого, но отнюдь не умели понять пользы союза с этими последними.
Немецкие города в деле защиты себя от притеснений, регулярного и нерегулярного грабежа императоров, владетельных принцев и дворян могли рассчитывать только на свои собственные силы и на союз между собой. Но чтобы этот союз Ганза, бывший почти исключительно союзом торговым, мог оказать им достаточное покровительство, было необходимо, чтобы он по характеру и значению стал явно политическим союзом, чтобы он вошел как признанная и значительная сила в государственную систему и чтобы империя считалась с ним как во внешних, так и во внутренних своих делах.
Обстоятельства вполне благоприятствовали этому. Могущество империи было значительно ослаблено борьбой гибеллинов и гвельфов; а поскольку немецкие города чувствовали себя достаточно сильными, чтобы образовать лигу взаимной защиты от коронованных и некоронованных грабителей, угрожавших им со всех сторон, то ничто не мешало им придать этому союзу гораздо более позитивный политический характер, то есть характер огромной коллективной силы, внушающей уважение. Они имели возможность сделать даже больше: пользуясь более или менее фиктивным союзом, который мистическая Священная империя создала между Италией и Германией, немецкие города могли бы объединиться или образовать федерацию с итальянскими городами, как они заключили союз с фламандскими городами, а позднее даже с некоторыми польскими городами. Само собой разумеется, они' должны бы были это сделать не на исключительно немецкой, но на широко интернациональной основе. И кто знает, такой союз, присоединивший к прирожденной немного тяжеловесной и грубой силе немцев ум, политические способности и любовь к свободе, свойственные итальянцам, не придал ли бы он политическому и социальному развитию Запада совершенно иное направление, несравненно более благоприятное для цивилизации всего мира. Один только большой изъян мог появиться из-за подобного союза; это — образование нового политического мира, могучего и свободного, вне земледельческих масс и, следовательно, направленного против них. При подобной политической комбинации итальянские и германские крестьяне еще больше были бы предоставлены произволу феодальных сеньоров, чего, впрочем, не удалось совсем избежать, так как муниципальная организация городов имела своим следствием глубокое отчуждение крестьян от буржуа и от рабочих и в Италии, и в Германии.
Но перестанем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они сами мечтают достаточно; беда только в том, что никогда свобода не была предметом их мечтаний. У них никогда не было, ни тогда, ни после, необходимого умственного и нравственного предрасположения постичь, полюбить, пожелать и создать свободу. Дух независимости им всегда был неведом. Сама мысль о протесте и возмущении внушает им страх и отвращение. Бунт несовместим с их покорным и терпеливым характером, и их мирно и покорно трудолюбивыми привычками, и их благоразумным и вместе с тем мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа обязательно являются на свет с шишкой почтения, общественного порядка и послушания. С такими предрасположениями никогда не добьешься освобождения и даже в самых благоприятных условиях останешься рабом.
Так обстояло дело с лигой ганзейских городов. Она никогда не выходила за пределы умеренности и благоразумия, добиваясь только трех вещей: чтобы ей предоставили мирно богатеть с помощью ее промышленности и торговли; чтобы признали ее внутреннюю организацию и судопроизводство; чтобы не требовали от нее слишком огромных денежных пожертвований взамен оказываемых ей покровительства и снисходительности. Что касается общих дел империи, как внутренних, так и внешних, то немецкая буржуазия охотно предоставляла исключительную заботу об этом «важным господам» (den grossen Her-ren), будучи сама слишком скромною, чтобы в них вмешиваться.
Подобная политическая умеренность должна была с необходимостью сопровождать крайнюю медлительность интеллектуального и социального развития нации, точнее, являться определенным ее симптомом. И действительно, мы видим, что в продолжение всего XIII века немецкий ум, несмотря на значительное торговое и промышленное развитие, несмотря на все материальное процветание немецких городов, абсолютно ничего не произвел. В том же самом веке в Парижском университете, несмотря на короля и папу, уже преподавалась доктрина, смелость которой могла бы привести в ужас наших метафизиков и теологов, утверждавшая, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворен, и отрицающая бессмертие души и свободу воли. В Англии мы встречаем великого монаха Роджера Бэкона, предшественника современной науки и истинного изобретателя компаса и пороха, хотя немцам и очень хотелось бы приписать себе это последнее изобретение. В Италии писал Данте. В Германии же — беспросветный интеллектуальный мрак.
В четырнадцатом веке Италия уже обладает превосходной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккаччо; на политической арене фигурируют такие люди, как Риенци и Микеле Ландо, рабочий-чесальщик из Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных Штатах, окончательно определяют свой твердый политический характер, поддерживая королевскую власть против аристократии и папы. Это также век Жакерии, первого восстания французской деревни, воспоминание о котором должно пробуждать энтузиазм в сердцах искренних социалистов, подобно тому, как оно будит презрение и ненависть в сердцах буржуа. В Англии начинает проповедовать Джон Уиклиф, истинный инициатор религиозной реформации. В Богемии, славянской стране, имевшей несчастие сделаться частью Германской империи, мы находим в народных массах, среди крестьян, такую любопытную секту, как фратичелли, которые в борьбе между небесным деспотом и сатаной дерзают брать сторону сатаны, этого духовного главы всех революционеров, прошедших, настоящих и будущих, истинного творца человеческого освобождения, по свидетельству Библии, отрицателя небесной империи, подобно тому, как мы являемся отрицателями всех земных империй, создателя свободы, того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствует с таким неподражаемым красноречием. Fraticelli приготовили почву для революции Гуса и Жижки. Наконец, в этом веке зарождается швейцарская свобода.
Восстание немецких кантонов Швейцарии против деспотизма дома Габсбургов — факт, настолько противоречащий национальному духу Германии, что он своим необходимым, непосредственным следствием имел основание новой швейцарской нации, крещенной именем восстания и свободы и, как таковой, с тех пор отделенной от Германской империи непроходимой преградой.
Немецкие патриоты любят повторять вместе со знаменитой пангерманской песенкой Арндта, что «их отечество простирается настолько же далеко, насколько звучит их язык, возносящий хвалы Господу».
Sie weit die deutsche Zunge klingt,
Und Gott im Himmel Lieder singt!
Если бы они больше прислушивались к подлинному смыслу их истории, чем к внушениям их безудержной фантазии, то должны были бы сказать, что их отечество простирается настолько же далеко, насколько господствует рабство народов, и что оно кончается там, где начинается свобода.
Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с германскими городами материальными интересами, интересами возрастающей и развивающейся торговли, и несмотря на то, что они составляли часть Ганзейского союза, начиная именно с этого века стремятся отдалиться все более и более от городов германских под влиянием того же самого духа свободы.
В Германии на протяжении всего этого века, при все возрастающем материальном благополучии не замечается ни малейшего умственного или социального движения. В политике заслуживают быть отмеченными только два факта: первый — это заявление имперских принцев, которые, подражая примеру французских королей, объявляют, что империя должна быть независима от папы и что выше императора один только Бог; второй — обнародование знаменитой Золотой Буллы. Этими фактами окончательно организуется империя и учреждается институт семи принцев-выборщиков в честь семи подсвечников Апокалипсиса.
Наконец, мы в XV веке. Это век Возрождения. Италия в полном расцвете. Во всеоружии вновь открытой философии античной Греции она разбивает мрачную темницу, в которой в продолжение десяти веков католицизм держал человеческий дух. Падает вера, зарождается свободная мысль. Это — блестящая и радостная заря человеческой эмансипации. Под небом свободной Италии родятся без счету независимые и смелые мыслители. Сама церковь становится там языческой. Папы и кардиналы, презирая св. Павла, поклоняются Аристотелю и Платону, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, клянутся только Бахусом и Венерой, что не мешает им, однако, время от времени заниматься преследованием свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых угрожает уничтожить веру народных масс, источник их могущества и доходов. Горячий и знаменитый проповедник новой веры, религии человечества Пико делла Мирандола, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.
Во Франции и в Англии — застой. Первая половина этого века занята гнусной и бессмысленной войной*, начавшейся из-за самолюбия королей и неразумно поддержанной английской нацией, войной, отодвинувшей на целый век назад Англию и Францию. Как пруссаки в настоящее время, англичане XV века хотели разорить Францию, подчинить ее себе. Они даже овладели Парижем — что при всем их желании немцам еще не удалось сделать до сих пор — и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы теперь вешают вольных стрелков. В конце концов они были изгнаны из Парижа и из Франции, чем — будем надеяться — окончится и немецкое нашествие.
Во второй половине XV века во Франции мы видим зарождение подлинного королевского деспотизма, усиленного этой войной. Это — эпоха Людовика XI, неотесанного грубияна под стать Вильгельму I с его Бисмарками и Мольтке, зачинателя бюрократической и военной централизации Франции, создателя Государства. Он благоволит еще иногда опираться на своекорыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием смотрит, как король рубит родовитые и гордые головы своих феодальных сеньоров, но буржуазия уже чувствует по манере, с какой он обращается с ней, что если бы она не захотела поддерживать его, он сумел бы ее принудить к тому. Всякая независимость, дворянская или буржуазная, духовная или светская, ему одинаково ненавистна. Он уничтожает остатки феодального строя и рыцарство; учреждает военные ордена: это для дворянства. Он облагает налогами свои верные города по своему усмотрению и диктует свою волю Генеральным Штатам. Это для буржуазной свободы. Он, наконец, запрещает читать номиналистов и предписывает чтение реалистов*. Это для свободы мысли. Но все же, несмотря на такое суровое притеснение, Франция в конце XV века дает миру Рабле, истинно народного галльского гения, глубоко одаренного бунтарским духом, который характеризует собою век Возрождения.
* Номиналисты, материалисты, насколько могли ими быть схоластические философы, не признавали реальности отвлеченных идей; реалисты, наоборот, правоверные мыслители, поддерживали реальное бытие этих идей.
В Англии, несмотря на ослабление народного духа, естественное следствие гнусной войны против Франции, мы видим в продолжение всего XV века учеников Уиклифа, проповедующих, несмотря на жестокие гонения, доктрину своего учителя и приготовляющих таким образом почву для религиозной революции, разразившейся веком позже. В то же время путем индивидуальной пропаганды, не видной на поверхности, но тем не менее живучей, в Англии так же, как и во Франции, свободный дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, гордые своей свободой и сильные своим богатством, с полным правом вливаются в культурное и научное развитие, все более и более отделяясь от Германии.
Что касается Германии, то мы видим, что она спит крепким сном в продолжение всей первой половины этого века. Однако в недрах империи и в самом ближайшем соседстве с Германией произошло событие огромной важности, достаточное, чтобы вывести из оцепенения всякую другую нацию. Я имею в виду религиозное восстание Яна Гуса, великого славянского реформатора.
С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение, это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократически-буржуазной цивилизации немцев; это было восстание древней славянской общины против немецкого государства. Два великих славянских восстания имели место уже в XI веке. Первое было направлено против благочестивых притеснений бравых тевтонских рыцарей, предков современных прусских поместных дворянчиков. Славянские повстанцы сожгли тогда все церкви и истребили всех священников. Они вполне справедливо ненавидели христианство, представшее перед ними в самой своей отвратительной, германистской форме: под личиной любезного рыцаря, добродетельного священника и честного буржуа, всех троих — чистокровных немцев и как таковых представителей власти прежде всего, представителей грубого, наглого и жестокого гнета. Второе восстание было спустя тридцать лет в Польше. Это было первое и единственное чисто польское крестьянское восстание. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот каково суждение об этом событии великого польского историка Лелевеля, в патриотизме которого и даже в известной любви к классу, называемому им ((благородная демократия», никто не может усомниться:
«Партия Мазлава (предводителя мазовецких крестьян-повстанцев) была народной и была связана с язычеством. Партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства» (т. е. германизированной). Далее он добавляет: «Несомненно, на это бедственное событие нужно смотреть как на победу, одержанную над низшими классами, судьба которых могла вследствие этого только ухудшиться. Порядок был восстановлен, но социальный курс с тех пор круто повернулся против низших классов» (Histoire de la Pologne, par loachim Lelewel, t. II, p. 19).
Богемия позволила германизировать себя еще более, чем Польша. Как и последняя, она никогда не была завоевана немцами, но она позволила им глубоко развратить себя. Став членом Священной империи со времени ее основания как государства, она, к сожалению, никогда не могла освободиться от нее и приняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные институты. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство, буржуазия и духовенство, не будучи немцами по рождению, превратились в них благодаря крещению, воспитанию и своему политическому и социальному положению. Примитивно организованные славянские общины не признавали ни священников, ни классов. Одни богемские крестьяне не заразились этой немецкой проказой и стали, разумеется, жертвой этого, что объясняет их инстинктивную симпатию ко всем народным ересям. Так, мы видели, что уже в XII веке по Богемии распространилась ересь вальденсов; в XIV в. — ересь фратичелли; а к концу этого века на очереди стояла ересь Уиклифа, сочинения которого были переведены на богемский язык. Все эти ереси стучались также и в двери Германии; прежде чем добраться до Богемии, они должны были даже пройти через Германию. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Неся в себе зародыш бунта, они проскользнули бесследно по ее поверхности, не проникнув в глубину, не затронув ее, не нарушив ее глубокого сна. Но зато все они находили благоприятную почву в Богемии, народ которой, порабощенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство, и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему на пути религиозного протестантизма чешский народ опередил на целый век народ немецкий.
Одним из первых проявлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров из Пражского университета, ужасное преступление, которое немцы никогда не могли простить чешскому народу. И все нее, если присмотреться ближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгнав этих дипломированных раболепных развратителей славянской молодежи. Вспомните только: за исключением очень короткого периода, приблизительно около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 гг., когда дерзкий либерализм и даже французский демократизм контрабандой проскользнул и утвердился в немецких университетах в лице двух-трех десятков знаменитых ученых, проникнутых искренним либерализмом, чем были немецкие профессора до этой эпохи и чем они сделались вновь под влиянием реакции 1849 года? Они были и остались льстецами всех властей, профессорами раболепства. Происходя из немецкой буржуазии, они добросовестно выражают ее стремления и дух. Их наука — верное выражение рабского сознания. Это — идеальное освящение исторического рабства.
Немецкие профессора XV века в Праге были по крайней мере такими же раболепными лакеями, как и современные профессора Германии. Эти душой и телом преданы Вильгельму I, свирепому будущему государю кнуто-германской империи. Те были заранее раболепно преданы всем императорам, которых соблаговолили бы выбрать семь германских апокалипсических принцев-выборщиков для Священной Германской империи. Их мало интересовало, кто хозяин, лишь бы он был; общество без господина казалось им чудовищной аномалией, возмущав шей их буржуазно-германское воображение. Это было, по их мнению, ниспровержением германской цивилизации.
Притом, какие науки преподавались ими, этими немецкими профессорами XV века? Католическо-римская теология и кодекс Юстиниана, два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию, и это в ту пору, когда, оказав в прошедшие века несомненные услуги освобождению духа, она остановилась и застыла в своем окаменелом педантизме, осаждаемая современным мышлением, которое оживляло предчувствие — если не присутствие — живой науки. Прибавьте сюда еще немного варварской медицины, преподаваемой, как и все остальное, на варварском латинском языке, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли держать их ради этого? Тем более, что кроме развращения молодежи своим преподаванием и своим раболепным примером они еще были очень деятельными, очень усердными агентами этого рокового дома Габсбургов, который смотрел уже на Богемию как на свою добычу.
Ян Гус и Иероним Пражский, его друг и ученик, много способствовали их изгнанию. Характерно, что когда император Сигизмунд, нарушив данный им охранный лист, велел их сперва осудить Констанцским собором потом обоих сжечь, одного в 1415 году, другого в 1416 году, перед лицом всей Германии при огромном стечении немцев, съехавшихся издалека для присутствия на этом зрелище, ни один немецкий голос не поднялся, чтобы протестовать против этого беззакония и отвратительной жестокости. Нужно было ждать еще сто лет, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.
Но если немецкий народ, вероятно, еще дремавший и грезивший, оставил без протеста это ужасное преступление, то чешский народ ответил на него грозной революцией. Поднялся великий, ужасный Жижка, этот герой, этот мститель народный, память о котором, как обет грядущего, еще живет в недрах богемской деревни, — и во главе своих таборитов, обойдя всю Богемию, сжег церкви, уничтожил священников и смел всю императорскую, или немецкую, сволочь, что тогда означало одно и то же, потому что все богемские немцы были сторонниками императора. Вслед за Жижкой Прокоп Великий наполнил ужасом сердце немцев. Сами пражские буржуа, разумеется, бесконечно более умеренные, чем крестьяне-гуситы, заставили выпрыгнуть из окна, по древнему обычаю этой страны, сторонников императора Сигизмунда в 1419 г., когда этот подлый клятвопреступник, этот убийца Яна Гуса и Иеронима Пражского имел бесстыдство и циничную наглость выставить себя в качестве претендента на освободившуюся Богемскую корону. Пример, достойный подражания! Пример того, как следует обращаться друзьям всеобщего освобождения со всеми, кому вздумается предстать перед народными массами в качестве официальной власти, под какой бы то ни было маской, под каким бы то ни было предлогом и под каким бы то ни было наименованием!
В продолжение семнадцати лет подряд эти грозные табориты, живущие между собою в братском согласии, разбивали все саксонские, франконские, баварские, рейнские и австрийские войска, которые император и папа посылали против них крестовым походом; они очистили Моравию и Силезию и перенесли ужас своего нашествия в сердце самой Австрии. В конце концов они были разбиты императором Сигизмундом. Почему? Причина та, что они были ослаблены интригами и предательством чешской партии, которая, однако, состояла из коалиции местного дворянства и пражской буржуазии, немцев по воспитанию, по положению, по идеям и нравам, если не по происхождению, присвоивших себе, в противоположность таборитам — коммунистам и революционерам, — наименование каликстинцев, т. е. людей, требующих мудрых, возможных реформ, бывших, одним словом, в Богемии того времени представителями той самой политики лицемерной умеренности и плутоватого бессилия, которую теперь там не без успеха поддерживают гг. Палацки, Ригер, Браунер и КО.
С этого момента народная революция быстро пошла к упадку, уступив место сначала дипломатическому влиянию, а веком позднее — абсолютному господству австрийской династии. Умеренные и ловкие политики, воспользовавшись торжеством проклятого Сигизмунда, овладели правительством, как им это удастся, вероятно, сделать, к ее вящему несчастью, и во Франции по окончании этой войны. Они послужили, одни сознательно и с большой пользой для своих карманов, другие глупо, сами того не подозревая, орудиями австрийской политики, как Тьеры, Фавры, Симоны, Пикары и многие другие будут служить орудиями Бисмарка. Австрия магнетизировала и вдохновляла их. Спустя двадцать пять лет после уничтожения Сигизмундом гуситов эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор, укрепленный лагерь таборитов. Так же жестоко поступают буржуазные республиканцы Франции, заставляющие своего президента или короля принимать жестокие меры против социалистического пролетариата, этого последнего оплота будущего и единственного защитника национального достоинства Франции.
В 1526 году корона Богемии, наконец, досталась Австрийской династии, которая уже никогда не выпустит ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного менее ста лет, Богемия, преданная огню и мечу, опустошенная, разграбленная, разбитая, с населением, уменьшившимся наполовину, утратившая все, что еще оставалось от ее независимости и ее национальных политических прав, оказалась закованной в цепи под тройным игом: императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских иезуитов. Будем надеяться, во имя счастья и спасения человечества, что этого не произойдет с Францией.
В начале второй половины XV века немецкая нация представила, наконец, доказательство жизнеспособности своего гения, казалось, уснувшего навеки, и это доказательство, нужно сознаться, было блестящим: она изобрела книгопечатание, и при его посредстве она включилась в культурную жизнь всей Европы. Ветер Италии, сирокко свободной мысли, подул на нее, и под этим жгучим веянием растопилось ее варварское равнодушие, ее ледяная неподвижность. Германия становится гуманистичной и человечной.
Помимо распространения книг связь с Италией поддерживалась еще и путем личных сношений. Немецкие путешественники, возвращавшиеся из Италии в конце этого века, приносили оттуда новые идеи, евангелие человеческого освобождения, и пропагандировали их с религиозной страстностью. На этот раз драгоценные семена не пропали даром. Они нашли в Германии почву, готовую для их восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли и деятельности, внесла свой вклад в идейное течение века. Но увы! ее духовный подъем длился не более двадцати пяти лет.
Надо различать движение Возрождения и движение религиозной Реформации. В Германии первое движение опередило второе лишь на несколько лет. Был короткий период, между 1517 и 1525 гг., когда эти два движения, казалось, слились, хотя по духу они были совершенно противоположны друг другу: первое, представленное такими людьми, как Эразм, Рейхлин, великодушный и героический Ульрих фон Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пико делла Мирандолы и друг Франца фон Зикингена, Эколампадия и Цвингли, являющийся в некотором роде связующим звеном между чисто философским переворотом Возрождения, чисто религиозным преобразованием веры протестантской Реформацией и революционным восстанием масс, вызванным началом этой последней; второе, представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового, исключительно религиозного и богословского течения в Германии. Первое из этих течений, глубоко гуманистическое, стремилось через посредство философских и литературных трудов Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению духа и к разрушению глупых верований христианства; и в то же время, в лице более практических и более революционных деятелей, таких, как Ульрих фон Гуттен, Эколампадий и Цвингли, оно ставило своею целью освобождение народных масс из-под ига дворян и князей. Движение же Реформации, фанатически религиозное, богословское и, как таковое, преисполненное почтения ко всему божескому и презрения ко всему человеческому, суеверное до такой степени, что верило в возможность видеть дьявола и бросать ему в голову чернильницу, — как это произошло, говорят с Лютером в замке Вартбург, где еще и теперь показывают на стене чернильное пятно, — должно было неизбежно стать непримиримым врагом свободы духа и свободы народов.
Был, однако же, один момент, как я уже сказал, когда эти оба течения, такие противоречивые по существу: первое революционное по принципу, второе — в силу условий, должны были реально слиться в один поток. Этому отчасти способствовала двойственность, присущая самому Лютеру. Как богослов он был и должен был быть реакционером; но по натуре своей, по темпераменту, по инстинкту он был страстным революционером. У него была натура человека из народа, могучая натура, вовсе не созданная для того, чтобы терпеливо сносить какой бы то ни было гнет. Перед одним Богом, в которого он слепо верил и благодать которого ощущал в сердце своем, готов он был преклониться; и во имя Бога удалось кроткому Меланхтону, ученому богослову, и только богослову, его другу и его ученику, а на самом деле руководителю и укротителю этой львиной натуры, направить его решительно в сторону реакции.
Первое рычание этого сурового и великого немца было совершенно революционно. Действительно, трудно себе представить что-либо революционнее его воззваний против Рима; его обвинений и угроз, брошенных им в лицо германским принцам; его страстной полемики против лицемерного, утопающего в роскоши деспота и реформатора Англии Генриха VIII. Начиная с 1517 года до 1525 года только и слышно было в Германии, что громовые раскаты этого голоса, призывавшего, как казалось, немецкий народ ко всеобщему обновлению, к революции.
Его призыв был услышан. Немецкие крестьяне поднялись с тем грозным кличем, кличем социалистов: «Война дворцам, мир хижинам!», который в наши дни превратился в еще более грозный призыв: «Долой всех эксплуататоров и всех опекунов человечества, свобода и равенство в труде и пользовании земными благами, братство всех людей да расцветет на развалинах всех государств!»
Это был критический момент для религиозной Реформации и для всей политической судьбы Германии. Если бы Лютер захотел стать во главе этого великого народно-социалистического движения, сельское население восстало бы против своих феодальных владельцев, городская буржуазия поддержала бы его и с империей, с деспотизмом владательных принцев и с наглостью дворянства в Германии было бы покончено. Но для того, чтобы дать этому движению развиться, нужно было, чтобы Лютер не был богословом, более заботившимся о прославлении Творца небесного, чем о достоинстве человеческом, если бы его не возмущало, а, напротив, радовало, что угнетенные люди, бесправные крепостные вместо того, чтобы думать о спасении своих душ, дерзали требовать свою долю человеческого счастья на этой земле; нужно было также, чтобы городские буржуа Германии не были немецкими буржуа.
Подавленное и дезорганизованное равнодушием, а зачастую также и явной недоброжелательностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, чем вооруженной силой дворян и князей, это грозное крестьянское восстание в Германии было побеждено. Спустя десять лет также было подавлено другое восстание, последнее, вызванное в Германии религиозной Реформацией. Я имею в виду попытку мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иоанн Лейденский, пророк анабаптистов, казнен при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера.
Но еще за пять лет до этого печального финала народной революции, в 1530 году, оба германских богослова наложили роковую печать на все будущее страны, как религиозное, так и социальное. Я говорю об Аугсбургском исповедании, представленном Лютером и Меланхтоном германскому императору и князьям, которое одним ударом парализовало свободный душевный подъем, отвергло даже ту свободу совести, во имя которой была совершена Реформация. Но еще пагубнее был тот пункт нового исповедания, который признавал протестантских князей естественными покровителями и главами религиозного культа и устанавливал новую официальную церковь, которая не замедлила сделаться даже более абсолютной, чем римско-католическая, и такой же раболепной относительно светской власти, как церковь византийская. Таким образом, Реформация, в своем конечном результате, дала в руки протестантских императоров и владетельных князей орудие страшного деспотизма и повергла всю Германию, протестантскую, а также и католическую, по меньшей мере в трехвековое грубейшее рабство, которое — увы! — и доныне не расположено, как мне кажется, уступить свое место свободе*.
* Чтобы убедить в духе раболепства, характерном для германской лютеранской церкви и в наши дни, как и прежде, достаточно прочесть формулу декларации или клятвенного обещания, которое должен подписать и поклясться исполнять каждый пастор, прежде чем приступить к отправлению своих обязанностей. Оно не превосходит обязанности, но совершенно равно по своему раболепству присяге русского духовенства. Каждый пастор в Пруссии клянется быть всю свою жизнь покорным и преданным слугою своего господина и своего государя — не Господа Бога, а короля прусского; клянется точно и неуклонно исполнять все святые повеления и никогда ни ради чего не поступаться священными интересами его величества и, кроме того, клянется внушать такое же абсолютное почтение и послушание своей пастве и доносить правительству о всех мыслях, о всех делах и о всех начинаниях своей паствы, идущих вразрез с волей и интересами королевского правительства. И вот таким-то рабам доверяется исключительное руководство народными школами в Пруссии! Это столь хваленое обучение есть не что иное, как отравление масс, систематическое культивирование доктрины рабства.
Для Швейцарии было большим счастьем, что заседавший в том же году Страсбургский собор, руководимый Цвингли и Бюсе, отверг эту конституцию рабства, называемую религиозной и действительно являвшуюся таковой, поскольку именем самого Бога она освящала абсолютную власть князей. Будучи почти исключительно порождением богословской и ученой головы профессора Меланхтона, созревшая на почве глубокого, безграничного, непоколебимого и раболепного преклонения, которое каждый буржуа и немецкий профессор испытывает к личности своего господина, эта доктрина была слепо принята немецким народом, потому что его князья приняли ее. Новый симптом исторического рабства, не только внешнего, но и внутреннего, давящего на народ.
Это вполне понятное со стороны германских протестантских князей стремление разделить между собою обломки духовной власти папы и каждому сделаться маленьким папой в пределах своего государства мы встречаем также и в других монархических протестантских странах Европы, например, в Англии или в Швеции, но ни в той, ни в другой этой тенденции не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, пробудившимся в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ и особенно класс крестьян сумел отстоять свою свободу и свои права как от притязаний дворянства, так и от посягательств монархии. В Британии борьба официальной англиканской церкви со свободными церквами, пресвитерианцами Шотландии и индепендентами Англии, заканчивается великой и памятной революцией, от которой ведет свое начало национальное величие Великобритании. Но в Германии этот вполне естественный деспотизм князей не встретил подобного противодействия. Все прошлое германского народа, полное грез, но бедное свободой мысли и действия, чуждое свободных проявлений народной инициативы, наложило на весь его характер печать приниженной и почтительной покорности, и в этот критический момент своей истории германский народ не нашел в себе ни необходимой энергии, ни достаточной независимости, ни темперамента, чтобы отстоять свою свободу против традиционной и жестокой власти своих бесчисленных владык, князей и господ. В первый момент энтузиазма он выказал необычайно высокий подъем духа, и казалось даже, что пределы Германии слишком узки, чтобы сдержать взрыв ее революционной энергии. Но это был только момент, только порыв и как бы преходящее и искусственное проявление болезненно воспаленного мозга. Скоро он выдохся; тяжеловесный, малодушный и бессильный, раздавленный своей собственной тяжестью, он покорно позволил Лютеру и Меланхтону отвести себя на поводу в лоно церкви и надеть на шею спасительное и привычное ярмо своих князей.
Он во сне видел свободу и пробудился еще большим рабом, чем когда-либо. С тех пор Германия стала подлинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедью рабства посредством своего примера и посылки своих принцев, принцесс и своих дипломатов для насаждения и распространения его во всех европейских странах, она избрала рабство предметом своих наиболее глубоких научных умозрений. Во всех других странах администрация, взятая в самом широком смысле как организация бюрократической и фискальной эксплуатации, осуществляемой государством над народными массами, рассматривается как искусство: искусство водить на поводу народ, держать его в суровой дисциплине и стричь его, не позволяя слишком много кричать при этом. В Германии это искусство преподается как наука во всех университетах. Эту науку можно было бы назвать современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы являются священниками, а народ, разумеется, жертвой, постоянно приносимой на алтарь Государства.
Если верно, что только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служит мерилом человеческого достоинства наций и народов,— а в правильности этого суждения я глубоко убежден, — то нужно сознаться, что с тех пор, как существует германская нация, и до 1848 г. только одни немецкие крестьяне доказали своим восстанием в XVI веке, что этой нации не вполне чуждо это достоинство. Что же касается немецкой буржуазии, то, судя по ее чувствам, по ее поступкам, нам ничего не остается, как признать ее предназначенной к осуществлению идеала добровольного рабства.
Текст приводится по изданию: М.А.Бакунин. Философия, социология, политика. М., «Правда», 1989, с.188-290