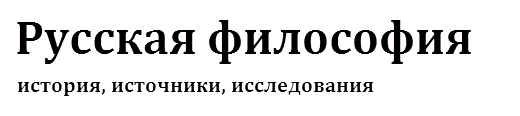Александр Николаевич Радищев
О человеке, о его смертности и бессмертии
Le temps présent est gros de 1’avenir.
Leibnitz .
КНИГА ПЕРВАЯ
НАЧАТО 1792 ГОДА ГЕНВАРЯ 15.
ИЛИМСК.
Друзьям моим
Нечаянное мое преселение в страну отдаленную, разлучив меня с вами, возлюбленные мои, отъемля почти надежду видеться когда-либо с вами, побудило меня обратить мысль мою на будущее состояние моего существа, на то состояние человека, когда разрушится его состав, прервется жизнь и чувствование, словом, на то состояние, в котором человек находиться будет, или может находиться до смерти. Не удивляйтесь, мои возлюбленные, что я мысль мою несу в страну неведомую и устремляюся в область гаданий, предположений, систем: вы, вы тому единственною виною. В необходимости лишиться, может быть, навсегда надежды видеться с вами, я уловить хочу, пускай не ясность и не очевидность, но хотя правдоподобие или же токмо единую возможность, что некогда, и где – не ведаю, облобызаю паки друзей моих, и скажу им (каким языком – теперь не понимаю): люблю вас попрежнему! А если бы волшебная некая сила пренесла меня в сие мгновение в обитаемую вами храмину, я бы прижал вас к моему сердцу; тогда все будущее и самая вечность исчезли бы, как сон.
Обратим взор наш на человека; рассмотрим самих себя; проникнем оком любопытным во внутренность нашу и потщимся из того, что мы есть, определить или, по крайней мере, угадать, что мы будем или быть можем; а если найдем, что бытие наше, или, лучше сказать, наша единственность, сие столь чувствуемое я продлится за предел дней наших на мгновение хотя едино, то воскликнем в радовании сердечном: мы будем паки совокупны; мы можем быть блаженны; мы будем! – Будем?.. Помедлим заключением, любезные мои! сердце в восторге нередко ввергало разум в заблуждение.
Прежде нежели (как будто новый некий провидец) я прореку человеку, что он будет или быть может по разрушении тела его, я скажу, что человек был до его рождения. Изведши его на свет, я провлеку его полегоньку чрез терние житейское, и дыхание потом исторгнув, ввергну в вечность. Где был ты, доколе члены твои не образовалися; прежде нежели ты узрел светило дневное? что был ты, существо, всесилию и всеведению сопричастное в бодрственные твои лета? Измерял ли ты обширность небесных кругов до твоего воплощения? или пылинка, математической почти точке подобная, носился в неизмеримости и вечности, теряяся в бездне вещества? – Вопросы дерзновенные, возлюбленные мои! но вопросы, подлежащие моему слову.
Удалим от нас все предрассудки, все предубеждения и, водимые светильником опытности, постараемся во стезе, к истине ведущей, собрать несколько фактов, кои нам могут руководствовать в познании естественности. Не во внутренность ее проникнуть настоит нам возможность, но разве уловить малую нить, для руководствования в постижении постепенного ее шествия, оставляя существам, человека превышающим, созерцать ее внутренность и понимать всю связь ее деяний. Но сколь шествие в испытании природы ни препинаемо препятствиями разнородными, разыскатель причину вещи, деяния или действия не в воображении отыскивать долженствует, или, как древний гадатель, обманывая сам себя и других, не на вымысле каком-либо основать ее имеет; но, разыскивая, как вещь, деяние или действие суть, он обнаружит тесные и неявственные сопряжения их с другими вещами, деяниями или действиями; сблизит факты единородные и сходственные, раздробит их, рассмотрит их сходственности и, раздробляя паки проистекающие из того следствия, он, поступая от одного следствия к другому, достигнет и вознесется до общего начала, которое, как средоточие истины, озарит все стези, к оной ведущие.
Поищем таковых в природе фактов, до предрождественного существования человека касающихся, и обратим внимание наше на них.
Человек зачинается во чреве жены. Сие есть естественное происшествие. Он зачинается во чреве жены; в нем растет и, дозрев по девятимесячном в утробе матерней пребывании, исходит на свет, снабженный всеми органами чувств, глагола и разума, которые усовершенствования достигать могут постепенно; сие всем известно. Но деяние пророждения, то есть образ, как зародыш делается, растет, совершенствует, есть и пребывает доселе таинством, от проницательнейших очей сокровенным. Любопытство наше в познании сего таинства удовлетворяем по возможности и не токмо могли видеть, как постепенно животное растет по зачатии своем, но счастливые случаи, любопытством неутомимым соглядаемые, послужили наукам в пользу, и в России имеем прекрасное собрание растущих зародышей от первого почти дня зачатия даже до рождения. Каким же образом происходит зачатие и питание или приращение, остается еще вопросом, который в одних токмо догадках доселе имел решение. Но при сем, во мраке погруженном, деянии естественном можем провидеть нечто поучительное и луч слабый на испытание изливающее. Мы видим, что семя, от которого зародыш зачинается, в некоторых животных существует в матери до плододеяния; но для развержения, для рощения бессильно. Сие в животных пернатых видим ясно. Яйцо есть сие семя, и до плододеяния содержит в себе те же, существенность его составляющие, части – белок и желток. Но если мы обратим взоры наши на существа, единою степенью на лествице творений от животных отстоящие; если мы рассмотрим земную собратию нашу, растения, отличающуюся от животных лишением местоменяющейся способности, и следствием может быть оной способности чувствования, – то мы увидим ясно, что для произведения высочайшего кедра, сосны или дуба равно нужно зерно или семя, как для произведения малейшия травы, на дерне стелющейся, или по голом камени растущего мха.
Итак, о растениях и о птицах можно не токмо сказать с вероятностию, но почти с убедительною ясностию, что семя существует не токмо до зачатия, но и до плододеяния. Сие однакоже для тех и для других необходимо, и самка без самца1 семя дает бесплодное. Заключения выводя по правилу сходственности, сказать можно то же о всех животных и о самом человеке. Итак, заключим, что человек преджил до зачатия своего, или сказать правильнее, семя, содержащее будущего человека, существовало; но жизни, то есть способности расти и образоваться лишенно. Следует, что нужна причина, которая воззовет его к жизни и к бытию действительному; ибо бытие без жизни хотя не есть смерть, но полуничтожество и менее почти смерти.
Восходя таким образом от факта известного до вероятного, можно почти безошибочно сказать, что человек существует в жене до зачатия своего, но в полуничтожном своем виде; и нужна необходимо плододеятельная влажность мужеская, чтобы воззвать семя от бездеятельности к деянию, от полуничтожества к жизни.
Семя мужеское есть средство, коим семя жены становится зародыш, как то из предыдущего следует: оно дает жизнь. И если нужно, чтобы бездейственная вещественность для получения движения имела начальное ударение, то для дания жизни нужно также ударение плододетельного сока. Если мы рассмотрим сопутствующие деянию зарождения обстоятельства в животных (даже в растениях сие приметно, хотя не столь явственно), а паче в человеке, то ударение, которое мужеский плододеятельный сок впечатлевает семени, не может почесться простым или единственно механическим. Сверх того, что сок сей имеет свойство весьма подстрекающее и способное возбуждать раздраженность семени женского, что он его проницает, кормит и образует; но воззри, до коликой степени возвышенна раздраженность и чувственность во время плотского соития; воззри, колико живоносным веселием оно сопутствуемо; измерь, если можешь, на весах естественности и сие веселие и притяжание плотское и любовь. Или сия так же естественна и в естественности имеет свое начало; но как пища, поглощенная желудком, превратяся в питательное млеко или хил, умножа груду крови в животном, протекает неисчисленными и неудобозримыми ходами, и очищаяся в нечисленных железах, достигает самого мозга, возобновляет его состав и, протекши и прешед тончайшие его каналы, производит нервенную жидкость, едва понимаемую, но никогда не зренную. Но сего мало. Кусок хлеба, тобою поглощенный, превратится в орган твоея мысли. Тако любовь, прияв начало в телесности, в действии своем столь же далеко отстоит от начала своего, как кусок снедаемый от действия мозга в мысленной силе. О, ты, вкушавший в объятиях возлюбленныя супруги кратчайшее, но величайшее веселие на земли, на тебя ссылаюся; вещай, не казалося ли тебе, что се конец бывает твоея жизни! Я не сладострастную здесь картину начертать намерен, но действие. Раздраженность всех частей тела, ею одаренных, чувствительность тех, коим она свойственна2, возвышаются в сию минуту до такой степени, что кажется, тут предел бывает жизни. И действительно, были примеры, что люди в соитии жизни лишались3. Иначе быть тому нельзя; се настоит прехождение от ничтожества к бытию, се жизнь сообщается. Не удивительно, что после соития слабость приметна в животном: он уделил жизни своея, коея нужное количество для своего состава он паки приобретет пищею, извлекая жизнь из того, чем питается: ибо все, его питающее, есть живо.
Но в сем безжизненном состоянии человека, когда он не есть еще зародыш, но семя или зерно, может ли он почесться человеком, может ли причтен быть к тварям разумным? Вопрос самой пустой и не стоющий ответа, если бы за ним не следовал другой, более казистый и вид сомнения имеющий. Что есть человек, и где он есть до произведения семени, из коего родиться имеет? Ибо, если можем понять, что семя предсуществует зачатию, то оно предсуществует в самке известной; но где оно было, доколе в ней не образовалося в виде семени?
Дерзновенный, ты хочешь взойти до бесконечности; но воззри на свое сложение; ты едва от земли отделен, и если бы око твое не водило тебя до пределов, солнечной системе смежных, и мысль твоя не летала в преддверие вечности, мог ли бы ты чем-либо отличен быть от пресмыкающихся?
Вооружай зрение твое телескопами, за дальнейшие неподвижные звезды досязающими; вооружай его микроскопами, в миллионы миллионов раз увеличивающими; что узришь ты? что ты ни на единую черту от данного тебе пребывания отделиться не можешь, не взирая на недавнее твое и столь величественное воскресение. И узришь хотя часть органа, мысль тебе дающего; но какое стекло даст узреть тебе твое чувствование? Безумный! оно ему не подлежит. Устремляй мысль свою; воспаряй воображение; ты мыслишь органом телесным, как можешь представить себе что-либо опричь телесности? Обнажи умствование твое от слов и звуков, телесность явится пред тобою всецела; ибо ты она, все прочее догадка.
Но дадим ответ на предыдущие вопросы, сколь нелепы они бы ни были. Если не достоверно, но хотя вероятно, что человек предсуществовал зачатию в семени, то суть две возможности, где существовало сие семя, опричь той вероятности, что оно в жене начиналося: а сие есть вероятнейшее других предположение. Но скажем хотя слово о них. Или семя содержалося одно в другом, из разверзшихся прежде его в бытие, и содержит в себе все семена, сколько их быть может, одно в другом до бесконечности. Или семя сие есть часть прежнего, которое было часть другого, прежде его к жизни воззванного, и может делиться паки на столько частей или новых семян, сколько то быть должно и может; равномерно и отделенные от него части паки делимы быть имеют до бесконечности. Бесконечность... о, безумные мы! все, чего измерить не можем, для нас есть бесконечно; все, чему в продолжении не умеем назначить предела, вечно. Но для чего не утверждать, как то сказали мы выше, что семя образуется в жене? Ибо, если чувствительность, мысль и все свойства человека (не говоря о животных и растениях) образуются в нем постепенно и совершенствуют, то для чего не сказать, что и жизнь, которая в семени, яко в хранилище, пребывать имеет4, доколе не изведет на развержение, образуется в органах человека. Ибо всякая сила, не токмо действующая в человеке, но в вселенной вообще, действует органом; по крайней мере, мы иначе никакой силы постигать не можем. Когда всесильный восхотел, чтоб движение и жизнь нам явны быть могли, он поставил солнце: вот чувственный его орган! Почто же дивиться, что смертные его боготворили?
Прейдем к другому вопросу. Семя до зачатия, или человек в предрождественном своем состоянии, мог ли почесться тварью разумною, или другими словами, сопряжена ли была душа с семенем, доколе не прешло семя в зародыш? Какое слабое удовлетворение твоему высокомерию, если и согласимся дать семени душу! но что сия душа? свойство ее жизни, или в совершенном возрасте человека есть чувствовать и мыслить; а понеже ведаем, что чувственные орудия суть нервы, а орудие мысли, мозг, есть источник нерв, что без него или же только с его повреждением или болезнию тела исчезает понятие, воображение, память, рассудок; что нервы толико тупеть могут, что суть иногда в болезненном состоянии тела почти бесчувственны; если же общий закон природы есть, что сила не иначе действует (для нас по крайней мере), как органом или орудием, то скажем не обинуяся, что до рождения, а паче до зачатия своего человек есть семя и не может быть что-либо иное. Бесчувствен, нем, не ощущаяй, как может быть разумною тварию? И хотя бы (согласимся и на то), хотя бы душа жила в семени до начатия веков; но когда она начинает действовать и мыслить, того не знает, не воспоминает, что она когда-либо была жива. А поелику не помнит о своем предрождественном состоянии, то человек настоящий, я настоящее, я, отличающееся от всех других собратных мне существ, не есть то я, что было; а хотя бы я нынешнее то же я было, которое было в предрождественном состоянии; но что в том мне пользы? Нет тождественности души в двух состояниях, то есть в нынешнем и предрождественном5; не все ли равно, что она не существовала до зачатия или рождения. Но нет ли какой-либо возможности, что душа может существовать с семенем сопряженна до зачатия зародыша? Вы видели, мои возлюбленные, что все предыдущие умствования суть предположительные или паче гадательные, то и сие мнение о предрождественном существовании души, поелику противоречия в себе не заключает, есть возможно. А если к тому присовокупим, что поелику всякая сила действует свойственным ей органом, и семя есть орган, для действия души определенный, но не разверженный, то можно сказать, что сила живет в органе и душа в семени; ибо если орган или семя не разверженно и неустроенно, то из того не следует, чтобы оно было мертво; ибо смерть есть разрушение, или паче, как то увидим далее, смерть не существует в природе, но существует разрушение, а следствие одно токмо преобразование. Присовокупим к сему предварительно, что как из опытов знаем, что по разрушении каждая частица отходит к своей стихии или началу, да паки в сложение прейдет, то сила жизни не отойдет ли к своему началу или стихии; и поелику стихия каждая одинакова, то частица оной может пребывать семени совокупна.
Вот что возможно сказать о предрождественном состоянии человека; но и тут, как видите, друзья мои, много предположений, систем, догадок. Таково есть положение наше, что мы едва ли можем удостоверены быть о том токмо, что предлежит нашим чувствам. Сведение о вещах внутрезрительное несть свойство нашего разума. Если чего не ощущаем, то заключаем по сходствию. И дабы вам сие изъяснить примером: мы по сходствию токмо заключаем, что рождены и смертны есмы. Итак, о прошедшем и будущем своем состоянии человек судит по сходствию. Блажен, если жребий его не есть блуждение!
Се настал час бытия и жизни! О, всесильный! отпусти дерзновение мое; я умствованием одним угадать тебя тщуся, доколе не воззван к жизни! Но я живу и тебя чувствую. О, всесильный! в том нет дерзновения!
Представим себе мужа и жену в цветущих силою летах, горящих взаимною любовию; представим себе невинные их лобзания, преддверие веселия. Представим их на непорочном ложе вкушающих его приятности, ужели думаешь, что восторг, исступление, забвение самого себя (во время соития) суть напрасны, и должны существовать без намерения? Когда есть цель малейшему микроскопическому зверку, ужели думаешь, что величайшее плотское веселие не имеет оной? И можно ли в ней ошибиться! Намерение есть чувствование, цель жизнь.
Уже жена зачала во чреве; уже зародыш жив. Сердце, сей источник крови и въемлище ее, в нем биет даже с первого дня соития. Началося кормление6, рощение. Уже мало-помалу члены его образуются. Каждое волокно ищет своих подруг, с коими согрудится7, и составляются мышцы. Но паче всего образуется голова, растет больше и величает. В ней пребывание чувствий и умственных сил! – Пребыв во чреве жены предопределенные девять месяцев, зародыш стал дитя8. Орудии движения, чувствия, голоса и жизни получили свое дополнение; основание уже положено разумным силам, орган их уже готов, как гладкая таблица готова на восприятие впечатлений. Упругость, содрогательность существуют уже в образованном, да некогда произведут страсти, притяжение и отвращение. И се рождается дитя – человек да будет.
Итак исшел на свет совершеннейший из тварей, венец сложений вещественных, царь земли, но единоутробный сродственник, брат всему на земле живущему, не токмо зверю, птице, рыбе, насекомому, черепокожному, полипу, но растению, грибу, мху, плесне, металлу, стеклу, камню, земле. Ибо, сколь ни искусственно его сложение, начальные части его следуют одному закону с родящимся под землею. Если кристалл, металл или другой какой-либо камень образуется вследствие закона смежности, то и части, человека составляющие, тому же следуют правилу. Если он зарождается и растет во чреве матернем, прилежное разыскание показует (хотя еще внимания на то не обращено), что для образования чего-либо и в царстве ископаемом нужна матка; и если в животных то издревле известно, что матка без мужеского сообщения бесплодна, то ныне явно уже о растениях и о подземных вероятно9. Но если кристаллизация, если руденение далеко отстоят от зачатия, питания и рождения, не образование ли есть цель того и другого? Образование есть видимое действие; – но причина? не сомневайся! то же начало, которое жизнь тебе дает, действует и в законе смежности.
Мы не унижаем человека, находя сходственности в его сложении с другими тварями, показуя, что он в существенности следует одинаковым с ними законам. И как иначе то быть может? не веществен ли он? Но намерение наше, показав его в вещественности и единообразности, показать его отличение; и тогда не узрим ли мы сопричастность его высшему порядку существ, которых можно токмо угадать бытие, но ни ощущать чувствами, ни понимать существенного сложения невозможно.
Человек, сходствуя с подземными, наипаче сходствует с растениями. Мы не скажем, как некоторые умствователи: человек есть растение, ибо, хотя в обоих находятся великие сходства, но разность между ими неизмерима. В растении находим мы жилы, питательный сок, в оных обращающийся; находим различие полов, матку, плододеяние мужеское, семя, зачатие, рощение, детство, мужественные лета, произведение, старость, смерть; следовательно растение есть существо живое, а может быть – и чувствительное, – (да не остановимся при словах!) но чувственность сия есть другого рода, может быть, одна токмо раздражительность. А паче всего вертикальное положение растений сходственно единому человеку. Хотя в растениях чувствительность не явна (и самая чувственница из сего не исключается), но согласиться нельзя, чтобы обращение соков действовало в них по простым гидростатическим правилам. В них существует истинная жизнь. Они на земли не для обновления токмо родов своих, но служат в пищу высшей степени существам. Сие есть одна простая догадка: но поелику органическое тело сохраниться может токмо пищею, то каждый род органических веществ питается веществами органическими же в разных их видах и сложениях; а питаяся сходствующими с органами его веществами, не жизнь ли он принимает в пищу, которая, почерпаяся из нижнего рода веществ, протекши и процедясь, так сказать, сквозь бесчисленные каналы, единообразуется той, которая органы его движет.
Паче всего сходственность человека примечательна с животными. Равно как и они, он отличествует от растений тем, что имеет уста. Растение, стоя в нижней степени существ земных, есть вся уста, по изражению одного известного писателя. Сок из земли корениями, росу же небесную сосет оно листвием. Человек уже отличествует, как и другие животные, от насекомых; ибо и сии, как гниды, суть токмо рот, желудок и его продолжение. Все органы, коими одарен человек, имеют и животные, разумея в назначенной их постепенности. Слух, обоняние, вкус, осязание, взор, все они имеют. Побуждение к пище равно терзательно и усладительно для всех живущих на лице земли, не исключая и растений. Исторгни его из недра земного, или замкни токмо источники небесные, цвет увянет, иссохнет корень, отпадет листвие, и вместо красящегося зеленостию листов и всеми цветами раздробленного луча солнечного в цвету своем, узришь его поросшее мхом и плеснию подернутое, преходящее в разрушение. Равномерно, отыми яства от животного и человека, возбуди алчбу и жажду в недрах его, лиша его всего того, что обновляет в нем кровь, дыхание и жизнь, ты скоро узришь страшные признаки смерти, окрест его летающие. Шествие будет токмо доколе не изнеможет. Взоры поникли, коими жизнь, кажется, помалу поступает, глаза въямившиеся, тело все обвисло морщинами; но вскоре остатки жизни превращаются в болезни лютые, в нестерпимые корчи и судороги, и будто жизнь, сие неведомое нами существо, в каждой фибре, в каждой нерве заключенное и растворенное, так сказать, во всех соках и твердых частях телес животных, жизнь начнет отделяться сперва с великим возбуждением чувственности, раздражительность вникает при конечном расслаблении, чувствительность живет при исчезании, и жизнь, сей безвещественный огнь, дав животному вздохнуть в последние, излетает. Труп хладеет, кровь, лимфа и водяность приходят в согнительное воскипение, все члены распадаются, каждое начало отходит к своей стихии, каменородная часть животного, кости, противятся несколько времени проникшему в него тлению; но скоро могущественность воздуха, разрушив известное их сложение, разделит их на составляющие их части и, иссосав в воздухообразном виде содержащуюся в них кислость, остатки предаст земле.
Человек, сходствуя в побуждении к питанию с животными, равно сходствует он с ними и растениями в плодородии. С большими и многими малыми животными он даже сходственные имеет уды детородные. Они все отстоят от главы в отдаленности, а вследствие возниченного положения человека они лежат в нижней его половине. Напротив того, они суть глава растений и их краса. Цветок – О, ты, возмогший проницательностию твоею узреть сие таинство природы, бессмертный Линней, не возгнушайся жертвоприношением желающего тебя постигнуть! – цветок есть одр любовный, ложе брачное, на коем совершается таинство порождения. – Хотя многие животные, как то все птицы, разнствуют от человека в порождении, но сходствуют с ним все живорождающие. Многие самки носят девять месяцев; родят обыкновенно одного, и дитя своего воскармливают сосцами своими.
Внутренность человека равномерно сходствует со внутренностию животных. Кости суть основание тела; мышцы – орудия произвольного движения; нервы – причина чувствования; легкое равно в них дышит; желудок устроен для одинаковых упражнений; кровь обращается в артериях и венах, имея началом сердце с четырьмя его отделениями; лимфа движется в своих каналах, строение желез и всех отделительных каналов, чашечная ткань и наполняющий ее жир, наконец, мозг и зависящие от него деяния: понятие, память, рассудок. Не унизит то человека, если скажем, что звери имеют способность размышлять. Тот, кто их одарил чувствительностию, дал им мысль, склонности и страсти; и нет в человеке, может быть, ни единыя склонности, ни единыя добродетели, коих бы сходственности в животных не находилося.
Нашед многочисленные сходственности между животными и человеком, нужно нам видеть и то, чем он отличествует от всех других животных, живущих на земле. Возниченный его образ отличает его внешность приметным образом и есть ему одному на земле свойствен. Хотя медведь становится на задние лапы, а обезьяны ходят и бегают на них, но сложение ног человеческих доказывает, что ему одному прямо ходить должно. Хотя сие хождение есть следствие искусственнейшего учения, хотя были примеры, что человек имел четвероножное шествие10, но из того не следует, что оно ему свойственно вследствие его сложения. Широкая его ступня, большой у ноги палец и положение других с движущими ступню мышцами суть явное доказательство, что человек не пресмыкаться должен по земле, а смотреть за ее пределы. Но сие то и есть паче всего человека отличающее качество, что совершенствовать он может, равно и развращаться; пределы тому и другому еще неизвестны. Но какое животное толико успевать может в добром и худом, как человек? Речь его и все оныя следствия, зверство его неограниченное убивая братию свою хладнокровно, повинуяся власти, которую сам создал; и какой зверь снедает себе подобного из лакомства, разве не он? Напротив, какое великодушие, отриновение самого себя; но о сем говорить еще не место.
Оставя теперь все следствия возниченного положения человека, мы находим, что сложение его паче всех животных беззащитнейшее, а хотя нежнейший имеет состав, но твердейшее имеет здравие. Все звери, или паче животные живут в свойственном для них климате. Слон живет под жарким поясом, медведь белый на льдинах Северного Океана; но человек рассеян во всех климатах. Гладкая и бесшерстная, но твердая его кожа противостоит всем непогодам и водворяется во всех странах света. Но самая сия беззащитность родила вымысел, и человек облекся в одежду. Но не от единыя нагости восприял он свой покров. Если она была к тому побуждением в холодном климате, живучи под равноденственным кругом не токмо казалася не нужна одежда, но тягостен и малейший на теле покров. Однакож мы противное тому видим. Жители Гвинеи, Сенегала, Нигера, Конго носят опоясье. Сколь чувствования народов сих ни притупленны, но стыдливость есть корень сего обыкновения. Сие суждение не есть произвольное или догадка; когда самки некоторых зверей дубравных чувствуют сие движение, когда многих родов самки ждут прислуги самца и обуздывают, так сказать, свою похотливость, то ужели самке человеческой стыд будет чужд? Возниченное положение, открывая детородные части в человеке, влечет, кажется, за собою неминуемое следствие – опояску.
Паче всего кажется человек к силам умственным образован11. Горизонтальное положение всех зверей, обращая зрение их, обоняние и вкус книзу, кажется наипаче определяет их блаженствовать в насыщении желудка; ибо и другое чувственное блаженство, соитие, всем зверям есть временно12. Самую обезьяну, и совершеннейшую из них и наиболее на человека похожую, орангутанга, из сего исключать не должно. Руки ее и ноги не сходствуют с человеческими так, как и вся почти внешность. Сколь некоторые роды людей, например, эскимы и другие, внешностию ни уродливы (если можно разнообразие природы почесть уродством), но члены их соразмернее обезьяны. Бюффон называет род обезьян животным четвероруким; но не взирая на слабое сходствие очертаний у них с человеком, причтем и их к четвероногим; ибо по их сложению не имеют они той точки равновесия, которая, воздымая человека от земли, шествие его делает возниченным и вид приятным. Череп его круглеет, лоб воздымается, нос становится острее, две ровные губы составляют уста, где обитает улыбка.
Казалося бы, что понеже человек, наипаче к мысленным действиям определенный, иметь долженствовал отменное во всем образование головного мозга, в котором, как то всякому чувствуемо, обитает мысль; и хотя находятся некоторые в нем отмены против мозга других животных, но доселе сие различие столь найдено невидимому маловажно, что нельзя сказать, в чем точно состоит преимущественная отмена в сложении мозга человеческого против мозга больших животных. Сверх же того, анатомия не была еще руководительницею к познанию, от чего в мозгу зависит память, воображение, рассудок и другие умственные силы. Сколь на сей конец опыты Галлеровы ни были многочисленны, но света действия умственныя человеческия главы не распростерли. Доселе оно кажется трудно, а, может быть, совсем невозможно, если рассудишь, что действие разума есть неразделимо. И хотя толкователи сих действий решат оные некиим (ими вымышленным) движением малейших фибр мозговых, но где находится среда, в которую все сии движения стекаются, никто не видал, ибо пинеальная железа, мозольное тело суть ли истинное пребывание души, о том только прежде сего гадали, а ныне молчат. Распространение просвещения и общий разум показали, что опыты суть основание всего естественного познания. Итак, может быть одно соразмерное сложение мозга, изящнейшее его положение, так, как приятная внешность человека, суть истинное отличие человеческого мозга в его образовании.
Некоторые писатели, представив себе мысленные линии, по человеческому образу проведенные, находили в большем или меньшем углу, от пресечения сих линий происходящем, различие человека от других животных, даже различие между народами; а известный Лафатер в угле, также мысленно начертанном, не токмо находил различие разумов между людей, но оное выдавал за непреложное правило. Но оставим правила вероятной, но далеко распростертой и от того бессущественной его физиогномии; скажем нечто о других. Кампер проводит линию чрез утлость уха до основания носа, и другую линию с верхнего края лобныя кости до наиболее иссунувшейся части бороды. В углу, где пресекаются сии линии, он находит различие животных от человека, а наипаче различие народов и определение их красоты. Птицы начертают, говорит Кампер, самый малейший угол. Чем более угол сей расширяется, тем животное сходственнее становится в образе своем человеку. Обезьяны имеют в образе своем сей угол от 42 до 50 степеней; сия последняя степень уже человекообразна. Европейцы 80, а греческая вообразимая красота от 90 степеней восходит до 100. Гердер, стараяся показать естественную сему причину, говорит, что она состоит в отношении животного к его горизонтальному или перпендикулярному строению и таковому положению его главы, от которого зависит счастливое положение головного мозга и красота и соразмерность всех личных частей. Протяни, говорит он, линии от последния шейныя кости, первую до точки, где кончится затылок, другую до высоты темя, третию до самого переда лба и линию до окончания бороды, то явно будет не токмо различие в образовании головы, но и самая причина оныя; то есть, что все зависит от строения и направления сих частей к горизонтальному или перпендикулярному шествию.
Вот как человек пресмыкается в стезе, когда он хочет уловить природу в ее действиях. Он воображает себе точки, линии, когда подражать хочет ее образам; воображает себе движение, тяжественность, притяжение, когда истолковать хочет ее силы; делит время годами, днями, часами, когда хочет изразить ее шествие, или свой шаг ставит мерою ее всеобъемлющему пространству. Но мера ее не шаг есть и не миллионы миллионов шагов, а беспредельность; время есть не ее, но человеческое; силы же ее и образы суть токмо всеобщая жизнь.
Гельвеций не без вероятности утверждал, что руки были человеку путеводительницы к разуму. И поистине, чему одолжен он изобретением всех художеств, всех рукоделий, всех пособий, для наук нужных? Но сие в человеке изящнейшее чувство осязания не ограничено на единые персты рук. Примеры видели удивительнейшие, что возможет человек, лишенный сих нужных для него членов. Если чувство его осязания не столь изощренно, как осязание паука, то нет ему в том нужды; оно бы было ему бесполезно, ибо несоразмерно бы было другим его чувствам и самому понятию его. Равным образом, отделяся от лица земли, вследствие своего строения, чувство обоняния и вкуса в нем притупели; ибо прокормление не стало быть его первейшею целию. А хотя оно ему необходимо, то рука его, вооруженная искусством, заменяет стократно недостаток его в изящности помянутых двух чувств. Но и тут с лучшим правдоподобием сказать можно, что вкус и обоняние суть в человеке изящнее, нежели в прочих животных. Если он не равняется обонянием со псом, следы зверя оным угадывающего, то сколь изыскателен он в благовонии следов. Сравни сладострастного сибарита или жителя пышных столиц в действиях вкуса и обоняния с действием тех же чувств в животных, и скажи, где будет перевес.
Человек равно преимуществует пред другими животными в чувствах зрения и слуха. Какое ухо ощущает благогласие звуков паче человеческого? Если оно в других животных (пускай слух и был бы в них изящнейший) служит токмо на отдаление опасности, на открытие удовлетворительного в пище, в человеке звук имеет тайное сопряжение с сто внутренностию. Одни, может быть, певчие птицы могут быть причастны чувствованию благогласия13. Птица поет, извлекает звуки из гортани своей, но ощущает ли она, как человек, все страсти, которые он един токмо на земле удобен ощущать при размерном сложении звуков? О, вы, душу в исступление приводящие, Глюк, Паизелло, Моцарт, Гайден, о, вы, орудие сих изящных слагателей звуков, Маркези, Мара, неужели вы не разнствуете с чижем или соловьем? Не птицы благопевчие были учители человека в музыке; то было его собственное ухо, коего вглубленное перед другими животными в голове положение14 всякий звук, с мыслию сопряженный, несет прямо в душу.
Орел, паря превыше облаков, зрит с высоты своего возлетения кроющуюся под травным листием свою снедь. Человек не столь имеет чувствие зрения дальновидно, как он; миллионы животных ускользают от его взора своею малостию; но кто паче его возмог вооружить свое зрение? Он его расширил почти до беспредельности. С одного конца досязает туда, куда прежде единою мыслию достигать мог; с другого превышает почти и самое воображение. Кто может сравниться с Левенгуком, с Гершелем?
Но изящность зрения человеческого наипаче состоит в созерцании соразмерностей в образах естественных. Не изящность ли зрения, изощренного искусством, произвела Аполлона Бельведерского, Венеру Медицейскую, картину Преображения, Пантеон и церковь Св. Петра в Риме и все памятники живописи и ваяния?
Но все сии преимущества обведены бы, может быть, были тесною чертою, если бы не одарен был человек способностию, ему одному свойственною, речью. Он един в природе велеречив, все другие живые его собратия немы. Он един имеет нужные для речи органы. Хотя многие животныя звуки гортанию производят, хотя птицы паче других в органах голоса сходствуют с человеком и некоторые изучиться могут произносить слова человеческия речи; но сорока, скворец или попугай ничто иное суть в сем случае, как обезьяны, человеку подражающие в его телодвижениях. Но если попугай может подражать в произношении некоторых слов человеку, если снегирь или канарейка подражают своим пением пению человеческому, то человек в подражании всех звуков пения превышает всех животных; и справедливо его один английский писатель назвал насмешником между всеми земными тварями.
Речь есть, кажется, средство к собранию мыслей воедино; ее пособию одолжен человек всеми своими изобретениями и своим совершенствованием. Кто б помыслил, что столь малейшее орудие, язык, есть творец всего, что в человеке есть изящно. Правда, что он может без него обойтися и вместо речи говорить телодвижениями; правда, что в новейшие времена искусство, так сказать, мысли распростерто и на лишенных того чувства, которое к речи есть необходимо; но сколь бы шествие разума без звучныя речи было томно и пресмыкающееся! О, ты15, возмогший речию одарить немого, ты, соделавший чудо, многие превышающее, не возмог бы ты ничего, если бы сам был безгласен, когда бы речь в тебе силы разума твоего не изощрила. Если немой, тобою наставленный, может причастен быть в твоих размышлениях, невероятно, чтобы разум его воспарил до изобретений речию одаренного. Хотя и то истинно, что лишение одного чувства укрепляет какое-либо другое; но вообще разум лишенного речи более изощряться будет подражанием, нежели собственною своею силою; не имеющий слуха коликих внутренних чувствований будет лишен, и, кажется, изъявления оных ему мало быть могут свойственны. – Итак, речь, расширяя мысленные в человеке силы, ощущает оных над собою действие и становится почти изъявлением всесилия.
Осмотрев таким образом человека во внешности его и внутренности, посмотрим, каковы суть действия его сложения, и не найдем ли, наконец, чего либо в них, что может дать вероятность бессмертия, или что, обнаружив какое-либо противоречие, идею вторыя жизни покажет нелепостию. Если заблуждение предлежит нам в стезе нашей, источник истины, всеотче! простри луч на разумение наше! Желание наше в познании нелицемерно и не тщеславием вождается, но любовию.
Из внешнего сложения человека видели мы, что менее всех других животных он способен к хищности. Пальцы его не вооружены острыми когтями для раздирания своея снеди, как у тигра; нет у него серпообразных клыков на отъятие жизни; напротив того, зубы его суть, кажется, доказательство, что пища овощная сходственнее его сложению, нежели мясная; да когда он и сию вкушает, то прежде изменит ее существенность варением. Итак, человек не есть животное хищное. С другой стороны, сложение его рук препятствует ему укрываться там, где могут животные, когти имеющие. Стоящее его положение препятствует ему избегать опасности бегством; но искусственные его персты доставляют ему оборону издали. Итак, человек, вследствие телесного своего сложения, рожден, кажется, к тишине и миролюбию. О, как он удаляется от своея цели! Железом и огнем вооружив руки свои, на произведение искусственных действий сложенные, он воссвирепел паче льва и тигра; он убивает не в снедь себе, но на увеселение, не гладом в отчаяние приведенный, но хладнокровно. О, тварь, чувствительнейшая из всех земнородных! на то ли тебе даны нервы? Уже в некоторых животных примечается опрятность и благопристойность. Птица ощипывает носом своим перья, зверь лижет шерсть свою языком, а более всех других человек любит соблюдение своего благообразия. Хотя нередко страсти и неумеренность его обезображают, но примеры единственные не отвергают правила общего. Я прейду здесь охоту, примеченную во всех диких народах, к украшению своего тела; умолчу о той степени, на которой она находится в ученейших народах; не скажу ничего, сколь все украшения уродуют тело вместо усугубления его красоты; но что человеку благолепие сродно, то, с одной стороны, вообразим, что когда он изящнейшие черты изобразить хочет, он изображает нагость. Облеки в одежду Медицейскую Венеру, она ничто иное будет, как развратная жеманка европейских столиц; левая рука ее целомудреннее всех вообразимых одежд. С другой стороны, представь себе вид безобразный: власы растерзанные, лице испещренное жжением, колонием и краскою, уши или нос дырявые, губы разрезанные и зубы непокровенны, шея и чрево задавленные, ноги и персты сжатые. Привычка нас заставляет находить украшением то, что сами с некоторою отменою почитаем безобразностию. Итак, свойственная человеку опрятность и благопристойность учили бы его сохранению своего образа в природном его виде, если бы превратность не учила другому. А ты, о превратнейший из всех, ибо употребляешь насилие власти, о законодавец тигр! почто дерзаешь уродовать благообразие человека? Он хотя преступник, но тот же человек. Вникни в его естественность, увидишь, что благообразие ему дано тем, кто жизнь ему дал. Ты уничижаешь его паче всякия твари, отъемля у него образование. И какая в том польза? –
Следствием нежности в нервенном сложении и раздражительности в сложении фибров человек паче всех есть существо соучаствующее. Соучаствование таковое в животных уже примечается: звери стекаются к испускающему жизнь брату их. Но паче всех одарен им человек. Жаль видеть обезображение даже неодушевленного. Вздохнешь, видя великолепные развалины; вздохнёшь, видя следы опустошения, когда огнь и сталь распростирают смерть по лугам и нивам. Преселись на место, где позыбнулись земли до основания. Хотя бы животные избегли бедствий естественных и гнева стихий, но глубокопроницающая печаль обойдет твое сердце, и ты, если не камень, потрясешься и восплачешь.
Наипаче таковое чувствование возбуждается в нас, взирая на скорбь и терзание животного. Стрела болезни пройдет душу, и она содрогнется. Обыкнув себя применять ко всему, человек в страждущем зрит себя и болезнует. Все чувствие таковое, проникающее нас посредством органов глазных, производит в нас страх и ужас. Но томящееся журчание, но воздыхание, но стон, крик, визг, хрипление, выводит нас из нас самих, возбуждает исступление. Чувствование предваряет рассудку, или, паче, человек во мгновение сие становится весь чувствование, рассудок молчит и страждет естественность. Человек сопечалится человеку, равно он ему и совеселится. Войдя во храмину, где веселие распростерло жизнодательную масть свою в сердца, где около торжествующих все блещет радостию, где руки плещут и ноги сопутствуют восторгу, а паче грудь, исполненная утехи, образует глас в радование, вздыхает от нежности или испускает крик веселостей; когда сердце и душа, исполнясь блаженства, явить хочет свое наслаждение и гортань поет; скажи, если ты не Альцест или не Тимон, не воспоешь ли с поющими, не умножишь ли хоровода пляшущих? Когда разве дряхлость отъяла силу движения в ногах и лишила голос твой приятности, то не будешь участвовать в веселии общем. Но знай, что ты не токмо существо, соучаствующее всему чувствующему, но ты есть существо подражательное. Если можешь с безумными обезуметь, то там, где фирс Вакхов вооружен блистает, как не быть тебе вакхантом?
Сие соучаствование человеку толико сосущественно, что на нем основал он свое увеселение, к немалой чести изобретению разума человеческого служащее. Скажи, не жмет ли и тебя змий, когда ты видишь изваяние Лаокоона? Не увядает ли твое сердце, когда смотришь на Маврикия, занесшего ногу во гроб? Скажи, что чувствуешь, видя произведение Корреджия или Альбана, и что возбуждает в тебе кисть Ангелики Кауфман? Исследовал ли ты все, что в тебе происходит, когда на позорище видишь бессмертные произведения Вольтера, Расина, Шекспира, Метастазия, Мольера и многих других, не исключая и нашего Сумарокова? – Не тебе ли Меропа, вознесши руку, вонзить хочет в грудь кинжал? Не ты ли Зопир, когда исступленный Сеид, вооруженный сталию, на злодеяние несется? Не трепещет ли дух в тебе, когда востревоженный сновидением Ричард требует лошади? «Нет у него детей!» – размышляет во мрачнотихом мщении Макбет; что мыслишь, когда он сие произносит? О, чувствительность, о, сладкое и колющее души свойство! тобою я блажен, тобою стражду!
Я не намерен здесь распространяться примерами о том, что каждому известно; но представьте себе и очарованное око театральным украшением, и ухо, отсылающее дрожание в состав нервов и фибров, возбужденное благогласием; представьте себе игру, природе совершенно подражающую, и слово, сладости несравненныя исполненное; представьте все сие себе, и кто сказать может, что человек не превыше всего на земле поставлен? Увеселение юных дней моих! к которому сердце мое столь было прилеплено, в коем никогда не почерпал развратности, от коего отходил всегда паче и паче удобренный, будь утешением чад моих! Да прилепятся они к тебе более других утех! Будь им истинным упражнением, а не тратою драгоценного времени!
Мы сказали, что человек есть существо подражательное, и сие его свойство есть ни что иное, как последование предыдущего или, лучше сказать, есть отрасль соучаствования. Я не разыскивал того прежде, но и теперь того же воздержуся, какой существует механизм в подражании и соучаствовании, как образ, вне нас лежащий, как звук, посторонним существом произнесенный, образуют внутренность нашу? Происходит ли то в первом случае какими-либо лучами, отражающимися от внешних тел, как будто электрическое вещество, исходящее завострениями, и несущими образ на сеть глазную посредством светильного вещества; производит ли, в другом случае, звук, раздающийся в ухе нашем и тимпан оного ударяющий, производит ли в нервах дрожание, струнному орудию подобное (что вероятно); или нервенный сок, прияв в себя внешние образы, внутреннюю чувственную им сходственность соделывает. Я уже сказал, – в познаниях сих многие суть догадки; и мы, прешед причины, ибо нам оне неизвестны, не скажем, как то происходит, ибо того не ведаем, но скажем: оно есть. Давно всем известно, что человек, живучи с другими, приемлет их привычки, походки и проч., даже самые склонности. В семейственной жизни сие наибольше приметно бывает. Не токмо дети имеют иногда привычки своих родителей или наставников, но имеют нередко их страсти. Примеры сему не токмо из истории почерпнуть бы можно было, но можно иметь их из ежедневного общежития. И неудивительно уже, что частое долговременное повторение одинакового действия всегда имея пред собою, может в привычку преобратиться; но подражательность столь свойственна человеку, что единое мгновение оную приводит в действительность. На сем свойстве человека основывали многие управление толпы многочисленныя. Первый Сципион, обвиняемый пред народом в злоупотреблении своея власти во время предводительствования римскими войсками: “Народ! – воскликнул он, – сей день вождением моим вы победили неприятеля, воздадим благодарение богам!” и, не ждав нимало, пошел в Капитолию, народ ему последовал, и обвинитель его посрамлен остался. Ужели думаете, что убежденный благорассуждением народ римский шествовал за Сципионом? Нимало! ни десятой доле бывшим в собрании не было слышно его изречение. Он пошел, друзья его за ним, и все машинально ему следовали. В магнетизме Месмеровом видели самое явное доказательство подражательности непреоборимой. Сидящие около его чана едва одного из среды своей зрели в содрогании, все приходили в таковое же. Воображение ли над ними действовало или что другое, до того нет нам нужды; но что все чувствовали в нервенной системе потрясение, то истинно. И сей нового рода врач, основав искусство свое на сем естественном подражании, приводил сим простым способом в движение, казалося, силу неизвестную. Но если бы помыслили, что буде в собрании, где наипаче объемлет скука, один зевнет, то все зевают, то бы Месмерово чудо таковым но казалося.
Различие полов, как то мы прежде уже видели, есть постановление природы повсеместное, на котором она основала сохранение родов не токмо животных, но растений, а может быть и ископаемых. Постановив различие [полов], она, может быть, столь же общим законом, возродила в них одного к другому побуждение; и можем ли ведать, что сила притяжения, действующая в химических смежностях, не действует и в телах органических? Животное иначе живет, нежели растение; но кто отвергнет, что растение не живо? Чем более вникают в деяния природы, тем видима наиболее становится простота законов, коим следует она в своих деяниях. Итак на различии полов основала она в человеке склонность к общежитию, из коея паки проистекают различные человеческие склонности и страсти. Но последуем ее постепенности.
Из различия полов следует склонность их одного к другому, склонность непреоборимая, столь сладостная в сердце добродетельном, столь зверская в развратном. Толико могущественно, толико глубоко положила природа корень сея склонности, что единое произвольно кажущееся движение в растениях относится к ней. Я говорю здесь о так называемом сне растений.
В животных склонность сия временное имеет действие, но в человеке всегдашнее. В нем склонность сия хотя столь же почти необходима, как и в животных, но подчинена очарованиям приятности и оставлена его управлению, выбору, произволу и умеренности. В человеке склонность сия хотя в младости разверзается, но позже нежели во всех других животных, а потому самому может быть она в нем и продолжительнее. Она в человеке отличествует тем, что сопрягает оба пола во взаимный союз непринужденно и свободно, нередко на целый их век. Кто из животных, разве не человеческие супруги, могут сказать: мы два плоть едина, мы душа единая! – О, сладостный союз природы! почто ты толико и столь часто бываешь уродован?
От любви супружней проистекает любовь матерняя. Зачав во чреве своем, родив в болезни, питая своими сосцами16, дитя есть, поистине, отпрыск матери, отрасль совершенная, не по уподоблению токмо, но в самой существенности. Союз их есть почти механический. Да не унизим его таковым изречением; он есть органический и будет нравственный и духовный, когда воскормление разверзет все новорожденного силы и образует его внутренность и внешность. О, чувствования преизящные! в вас лежит корень всякия добродетели. Наилютейшее чудовище мягчится семейственною любовию. Преторгла ею природа скитание зверообразного человека, обуздала его нежностию, и первое общество возникло в доме отеческом. Продолжительное младенчество, продолжительная в неопытности юность приучает его к общежитию неприметно. Сопутник неотлучный матери, лежа у сосцев ее и пресмыкаяся на земле, он, воспрянув на ноги отвесно, бежит во след отцу, естественному своему учителю. Малолетство его подчиняет его родителям в рассуждении его слабости; юность то же производит неопытностию. Привычка, благодарность, уважение, почтение делают сей союз наитвердейшим. Вот первое общество, вот первое начальство и царство первое. Человек рожден для общежития. Поздное его совершеннолетие воспретит, да человеки не разыдутся, как звери. О, Руссо! куда тебя завлекла чувствительность необъятная17?
Человеку и, может быть, животному вообще, кажется быть свойственно, вследствие его чувственного состава, внутреннее ощущение правого и неправого. Не делай того другому, чего не хочешь, чтобы тебе случилося, если не есть правило, из сложения чувствительного человека проистекающее, то разве начертанное в нас перстом всевечного. Все превратности, все лжи, все неправды, злобы, убивства не в силах опровергнуть сего чувствования. Возникшая страсть запирает глас чувствительности, но ужели нет ее, когда лежит попранна?
Единому человеку между всех земных тварей удалося познать, что существует всеотец, всему начало, источник всех сил. Я здесь не буду говорить, что он доходит до сего познания силою разума, возносяся от действий к причинам, и наконец к высшей из всех причин; не разыщу, что познание бога проистекло от ужаса или радости и благодарности; понятие о всевышнем существе в нем есть; сам он его себе сложил или получил откуда, того мы не рассматриваем. Но то истинно, что когда разум, а паче сердце страстями незатменно, вся плоть, все кости ощущают над собою власть, их превышающую. Называй сие кто как хочет; но Гоббес, но Спиноза ее ощущали; и если ты не изверг, о, человек! то отца своего ты чувствовать должен, ибо он повсюду; он в тебе живет, и что ты чувствуешь, есть дар вселюбящего.
Итак, познание бога может проистекать из единыя нашея чувствительности, и познание сие есть ее упражнение; упражнение, ведущее к вершине земного блаженства, внутреннего удовольствия, добродетели.
О, смертный, познавай бога! утешишься, если страждешь, возблаженствуешь паче, если блаженствуешь. Он жив, и ты дышишь; он жив будет во веки, в тебе живет надежда, что и ты причастен будешь бессмертию. О, смертный! Отверзи очи твои, и узришь всеотца во свете18.
Обозрев человека в его чувствованиях и действиях, оттуда проистекаемых, порядок требовал бы, чтобы мы показали его во всей его славе, возносящегося превыше всего творения, постигающего начертание создания, и сим возвышающим его дарованием, разумом, божеству уподобляющегося. Но для постижения, колико человек велик, нужно токмо воззреть на все его изобретения, на все вымыслы и творения. Науки, художества, общественная связь, законы суть доказательства избыточные, что человек превыше всего на земли поставлен. Но рассматривая и удивляяся величественности его разума и рассудка, увидим, что сие существо, творцу вселенныя сопричащающееся, проникающее незыблемыми стопами естественность, нередко уродствует, заблуждает; да и столь заблуждение ему почти сродно, что прежде нежели истины досягнуть может, бродит во тьме и заблуждениях, рождая нелепости, небылицу, чудовищей. И в том самом, о гордое существо, чем наипаче возноситься можешь, тем паче являешься смешон. Все однакоже заблуждения человека и нелепости суть доказательство мыслящего его существа, и что мысль есть наисвойственнейшее качество его.
Второе, что при рассмотрении умственных сил человека явно становится, есть то, что многие его умственные силы следуют законам естественности. Что сила воображения, например, зависит от климата, и что люди совсем бы иначе нам предъявлялися, если бы естественное житие, правление, законы, нравы и обычаи не делали его совсем от того, как рожден, отменным. Одна теплая храмина климат преображает, и какие из того последствия? Не из того ли проистекают и несообразности, которые видны часто в людских нравах и законоположениях?
Третие, что при рассмотрении умственных сил человека явственно становится, есть различие, в оных примечаемое, не токмо у одного народа с другим, но у человека с человеком. Но сколь один народ от другого ни отличествует, однако вообразя возможность, что он может усовершенствоваться, найдем, что может он быть равен другому, что индейцы, древние греки, европейцы суть по среде на стезе совершенствования; из чего заключить можно, что развержение народного разума зависит от стечения счастливых обстоятельств. Но совсем иначе судить должно о различии разумов между единственными человеками, и сколь Гельвеций ни остроумен, доказательства его о единосилии разумов суть слабы.
Четвертое, что замечается при рассмотрении разумных сил человека, есть то, что силы сии ничто при рождении, разверзаются, укрепляются, совершенствуют, потом тупеют, ослабевают, немеют и исчезают; что сия постепенность следует постепенности в развержении и уничтожении сил телесных и что тесное есть сопряжение между плододеятельного сока и человеческих умственных сил. Свидетельствуют тому брада или безумие, следствие несчастного саморастления. Но прежде всего скажем нечто о умственных силах человека, о действовании оных и о чудесности их.
Человек имеет силу быть о вещах сведому. Следует, что он имеет силу познания, которая может существовать и тогда, когда человек не познает. Следует, что бытие вещей независимо от силы познания о них и существует по себе.
Мы вещи познаем двояко: 1-е, познавая перемены, которые вещи производят в силе познания; 2-е, познавая союз вещей с законами силы познания и законами вещей. Первое называем опыт, второе рассуждение. Опыт бывает двоякий: 1-е, поелику сила понятия познает вещи чувствованием, то называем чувственность, а перемена, в оной происходимая, – чувственный опыт; 2-е, познание отношения вещей между собою называем разум, а сведение о переменах нашего разума есть опыт разумный.
Посредством памяти мы воспоминаем о испытанных переменах нашей чувствснности. Сведение о испытанном чувствовании называем представление.
Перемены нашего понятия, производимые отношениями вещей между собою, называем мысли.
Как чувственность отличается от разума, так отличается представление от мысли.
Мы познаем иногда бытие вещей, не испытуя от них перемены в силе понятия нашего. Сие назвали мы рассуждение. В отношении сей способности называем силу познания ум или рассудок. Итак, рассуждение есть употребление ума или рассудка.
Рассуждение есть ни что иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как чрез опыт.
Вот краткое изображение сил умственных в человеке; но все сии виды силы познания нашего не суть различны в существовании своем, но она есть едина и неразделима.
Однакож, раздробляя, так сказать, силу познания или паче, прилагая ее к разным предметам, ей надлежащим, человек воздвиг пространное здание своей науки. Не оставил отдаленнейшего края вселенной, куда бы смелый его рассудок не устремлялся; проник в сокровеннейшие недра природы и постиг ее законы в невидимом и неосязаемом; беспредельному и вечному дал меру; исчислил неприступное; преследовал жизнь и творение и дерзнул объять мыслию самого творца. Часто человек ниспадал во глубину блуждения и животворил мечтания, но и на косвенной стезе своей велик и богу подражающ. О, смертный! воспряни от лица земли и дерзай, куда несет тебя мысль, ибо она есть искра божества!
Сколько есть способов познавать вещи, толико же путей и к заблуждению. Мы видели, что познание человеческое есть двояко: 1-е опыт, 2-е рассуждение. Если в первом случае, – мы ложно познаем перемены, происходящие в чувственности нашей; ибо заблуждение сего рода всегда происходит не от вещи и не от действия ее над нашими чувствами (поелику внешние вещи всегда действуют на нас соразмерно отношению, в котором они с нами находятся), но от расположения нашей чувственности. Например: болящему желтухою все предметы представляются желтее; что белое для него было прежде, то ныне желтое; что было желтое, то кирпичного цвета, и так далее. Правда, что раздробление луча солнечного есть седьмично, как и прежде, и болящему желтухою от рождения различие цветов будет равное со всяким другим; но тот кто видел предметы в другом виде, тот может судить о сем. – Например: колокол бьет; глухой, не чувствуя перемены в ухе своем, понятия иметь не будет о звуке, но другой скажет: слышу звон! И если звон колокола есть знак какого-либо сборища, то слышащий пойдет, а глухой скажет: мне не повещали, – и чувства его обманут. Постепенность в таковых заблуждениях и все следствия оных, бывающие новыми заблуждениями по чреде своей, суть неудобоопределяемы и многочисленны.
Если знаем ложно отношение вещей между собою, то опять заблуждаем. Отношение вещей между собою есть непременно, но ложность существует в дознании нашем. Например: два предмета предстоят глазам моим, но не в равном расстоянии. Естественно, вследствие законов перспективы, что ближайший предмет должен казаться больше, а отдаленнейший меньше; но необыкшим очам они покажутся равны, и сравнение их будет ложно; ибо величина не есть сама по себе, но понятие относительное и от сравнения проистекающее. Число сих заблуждений, из познания отношения вещей проистекающих, происходит от рассуждения, и нередко заключая в себе оба рода предыдущих, тем сильнее бывает их действие, тем оно продолжительнее и преодоление их тем труднее, чем они далее отстоят от своего начала.
К рассуждению требуются две вещи, кои достоверными предполагаются: 1, союз, вследствие коего мы судим, и 2, вещь, из союза коея познать должно вещи, не подлежавшие опыту. Сии предположения называются посылки, а познание, из оных проистекающее, – заключение. Но как все посылки суть предложения опытов и из оных извлечения или заключения, то заключения из посылок, или рассуждение, есть токмо прибавление опыта; следственно, познаем таким образом вещи, коих бытие познано опытом.
Из сего судить можем, коликократны могут быть заблуждения человеческие и нигде столь часты, как на стезе рассуждения. Ибо, сверх того, что и чувственность обмануть нас может и что худо познать можем союзы вещей или их отношение, ничего легче нет, как ложно извлекаемое из посылок заключение и рассуждение превратное. Тысячи тысячей вещей претят рассудку нашему в правильном заключении из посылок и преторгают шествие рассудка. Склонности, страсти, даже нередко и случайные внешности, вмещая в среду рассуждения посторонние предметы, столь часто рождают нелепости, сколь часты шаги нашего в житии шествия. Когда рассматриваешь действия разумных сил и определяешь правила, коим они следуют, то кажется ничего легче нет, как избежание заблуждения; но едва изгладил ты стезю своему рассудку, как вникают предубеждения, восстают страсти и, налетев стремительно на зыблющееся кормило разума человеческого, несут его паче сильнейших бурь по безднам заблуждения. Единая леность и нерадение толикое множество производят ложных рассуждений, что число их ознаменовать трудно, а следствия исторгают слезы.
Сверх прямо извлекаемого рассуждения из предпосылаемых посылок, на опытах основанных, человек имеет два рода рассуждения, которые, возводя его к светлейшим и предвечным истинам, паки к неисчисленным и смешнейшим заблуждениям бывают случаем. Сии суть: уравнение и сходственность. Они основаны на двух непреложных (сами в себе) правилах, а именно: 1-е, равные и одинаковые вещи состоят в равном или одинаковом союзе или отношении; 2-е, сходственные вещи имеют сходственное отношение или в сходственном состоят союзе. Сколь правила сии изобильны истинами, сколь много все науки им одолжены своим распространением, столь обильны они были заблуждениями. Кто не знает, что мы наипаче убеждаемся сходственностию, что наши обыкновеннейшие суждения ее имеют основанием; что мы о важнейших вещах иначе судить не можем, как вследствие сходственности, и если надобен вам пример, то войдем во внутренность нашу на одно мгновение. Кто может, чувствуя токмо себя, рассматривая токмо себя, сказать: состав мой разрушиться имеет, я буду мертв! Напротив того, продолжению чувствования или жизни мы меры в себе не имеем, и могли бы заключить, что сложение наше бессмертно есть. Но видя окрест нас разрушение всеобщее, видя смерть нам подобных, мы заключаем, что и мы той же участи подвержены и умереть должны. Итак, заблуждение стоит воскрай истине, и как возможно, чтобы человек не заблуждал! Если бы познание его было нутрозрительное, то и рассуждение наше имело бы не достоверность, но ясность; ибо противоположность была бы во всяком рассуждении невозможна. В таковом положении человек не заблуждал бы никогда, был бы бог. Итак, воздохнем о заблуждениях человеческих, но почерпнем из того высшее стремление к познанию истины и ограждению рассудка от превратности. Мы видели, что заблуждения наши основание свое нередко имеют в чувственности нашей; но если мы покажем, что разумные наши силы определяются внешностию, то заблуждения человека суть почти неизбежны, и будем иметь вящее побуждение снисходительно взирать не токмо на все заблуждения рода человеческого, но и на самые его дурачества. Блаженны, если можем за словом нашим на месте строгости суждения возродить соболезнование и человеколюбие.
Все действует на человека. Пища его и питие, внешняя стужа и теплота, воздух, служащий к дыханию нашему (а сей сколь много имеет составляющих его частей), электрическая и магнитная силы, даже самый свет. Все действует на наше тело, все движется в нем. Влияние звезд, столь глупо понимаемое прежде сего, неоспоримо. Что могут лучи солнечные или их отсутствие, тому доказательством служат негры и эскимы. Что может луна, то явствует из периодического женского истечения и видно над многими ума лишенными. Хижина, поставленная над блатом и топью, дебрию или на горе вознесенная, различие производят в нас, и местоположение жилища нашего хотя не есть образователь единственный человека, но к образованию его много способствует. Все, что взоры наши ударяет, что колеблет слух, что колет язык или что ему льстит, все приятное и отвратительное обонянию, все образует чувства. Наконец, образователи осязания столь многочисленны, сколь различно бывает положение человека.
Из сего можно судить, сколь с чувственностию нашею и мысленность превращениям подвержена. Она следует в иных местах и случаях телесности приметным образом. Одним примером сие объяснить возможно. В Каире, даже в Марсели, когда подует известный ветр, то нападает на человека, некая леность и изнеможение: силы телесные худо движутся, и душа расслабевает, тогда и мыслить тягостно. Вот пример действия внешней причины. Дадим примеры внутренних. Вольтер, сказывают, пивал великое множество кофию, когда хотел что-либо сочинять. Живя многие годы с немцами, я приметил, что многие из ученых людей не могли вдаваться упражнениям без трубки табаку; отними ее у них из рта, разум их стоит, как часы, от коих маетник отъят. Кто не знает, что Ломоносов наш не мог писать стихов, не напиваяся почти вполпьяна водкою виноградною? Кто не имел над собою опытов, что в один день разум его действует живее, в другой слабее! А от чего зависит сие? Нередко от худого варения желудка. Если бы мы действие сего прилежнее отыскали в истории, то с ужасом усмотрели бы, что бедствия целых земель и народов часто зависели от худого действия внутренности и желудка.
Физические причины, на умственность человеческую действующие, можно разделитъ на два рода. Одни действуют повременно, и действие оных наипаче приметно бывает над единственными людьми, как то из предыдущих примеров очевидно. Другие же причины действуют неприметным образом, и сии суть общественны, и действия оных приметны над целыми народами и обществами. Хотя смеялися над славным Монтескье, что он мнение свое о действии климата основал на замороженном телячьем языке, но если вникнем, что климат действует на все тела без различия, а паче на все жидкости, на воздух, лучи солнечные и проч.; что роза, пресаженная из одной страны в другую, теряет свою красоту; что человек, хотя везде человек, но сколь он отличен в одной своей внешности и виде своем, то действие климата если не мгновенно, но оно чрезвычайно, и что оно человека погубляет, так сказать, неприметно и без явного принуждения. Возьми в пример европейцов, переселяющихся в Индию, Африку и Америку, какая в них ужасная перемена! Англичанин в Бенгале забыл великую хартию и habeas corpus; он паче всякого индейского набоба.
Наипаче действие естественности явно становится в человеческом воображении, и сие следует в начале своем всегда внешним влияниям. Если бы здесь место было делать пространные сравнения, то бы в пример списал некоторые места из Гюлистани Саадиева, из европейских и арабских, мне известных, стихотворцев, что-либо из Омира и Оссиана. Различие областей, где они живали, всякому явно бы стало; увидели бы, что воображение их образовалося всегда окрест их лежащею природою. Воображение Саадиево гуляет, летает в цветящемся саду, Оссианово несется на утлом древе, поверх валов. А если кто захочет сделать сравнение исповеданий и мифологии народов, в разных концах земли обитающих, то сколь воображение каждого образовалось внешностию, никто не усумнится. Индейские боги купаются в водах млечных и сахарных; Один пьет пиво из черепа низложенного врага.
Но если климат и вообще естественность на умственность человека столь сильно действуют, паче того образуется она обычаями, нравами, а первый учитель в изобретениях был недостаток. Разум исполнительный в человеке зависел всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположениями. Живущий при водах изобрел ладию и сети; странствующий в лесах и бродящий по горам изобрел лук и стрелы и первый был воин; обитавший на лугах, зелению и цветами испещренных, удомовил миролюбивых зверей и стал скотоводитель. Какой случай был к изобретению земледелия, определить невозможно; пускай была то Церера или Триптолем, или согнанный с пажити своея скотоводитель подражать стал природе сеянием злаков для питания своего скота, и после, возревновав его обилию, насадил хлеб. Как бы то ни было, земледелие произвело раздел земли на области и государства, построило деревни и города, изобрело ремесла, рукоделия, торговлю, устройство, законы, правления. Как скоро сказал человек: сия пядень земли моя! он пригвоздил себя к земле и отверз путь зверообразному самовластию, когда человек повелевает человеком. Он стал кланяться воздвигнутому им самим богу и, облекши его багряницею, поставил на олтаре превыше всех, воскурил ему фимиам; но наскучив своею мечтою и стряхнув оковы свои и плен, попрал обоготворенного и преторг его дыхание. Вот шествие разума человеческого. Так образуют его законы и правление, соделывают его блаженным или ввергают в бездну бедствий.
Животное, нагбенное к земле, следует своему стремлению в насыщении себя и в продолжении своего рода. Примеченный в нем слабый луч рассудка ограничивается токмо на два сказанные побуждения, и в удовлетворении оных состоит его блаженство, если можно назвать блаженством тупое услаждение своея потребности. Животное исполняет сие, направляемо к тому непреоборимым стремлением. Но возниченный образованием своим человек, слабый в своем сложении, имея многочисленные недостатки, нудяся к изобретению способов на свое сохранение, свободен в своем действии; стремление его и все склонности подчинены рассудку. И хотя сей, для определения своего, имеет побуждения, но оные возвесить может всегда и избирать. Таким образом, он есть единое существо на земле, ведающее худое и злое, могущее избирать и способное к добродетели и пороку, к бедствию и блаженству. Свободное его деяние сопрягло неразрывным союзом с женою, а с семейственною жизнию перешел он в общественную, подчинил себя закону, власти, ибо способен приять награду и наказание; и став на пути просвещения помощию общественного жития, сцепляя действия с причинами за пределы зримого и незримого мира, то, что прежде мог токмо чувствовать, тут познал силой умствования, что есть бог.
Различие, примечаемое в разумных силах человека, тем явственнее становится, чем долее одно поколение отстоит от другого. Общественный разум единственно зависит от воспитания, а хотя розница в силах умственных велика между человека и человека, и кажется быть от природы происходящая, но воспитание делает все. В сем случае мысль наша разнствует от Гельвециевой; и как здесь не место говорить о сем пространно, то, сократя по приличности слово наше, мы постараемся предложить мысли наши с возможною ясностию.
Изящнейший учитель о воспитании, Ж. Ж. Руссо, разделяет его на три рода. «Первое, воспитание природы, то есть развержение внутреннее наших сил и органов. Второе, воспитание человека, то есть наставление, как употреблять сие развержение сил и органов. Третие, воспитание вещей, то есть приобретение нашея собственныя опытности над предметами, нас окружающими. Первое от нас независимо вовсе; третие зависит от нас в некоторых только отношениях; второе состоит в нашей воле, но и то токмо предположительно, ибо как можно надеяться направить совершенно речи и деяния всех, дитя окружающих?»
Сколь Гельвеций ни старался доказывать, что человек разумом своим никогда природе не обязан, однакоже для доказательства противного положения мы сошлемся на опытность каждого. Нет никого, кто с малым хотя вниманием примечал развержение разумных сил в человеке, нет никого, кто б не был убежден, что находится в способностях каждого великое различие от другого. А кто обращался с детьми, тот ясно понимает, что поелику побуждения в каждом человеке различествуют, поелику различны в людях темпераменты, поелику вследствие неравного сложения в нервах и фибрах человек разнствует от другого в раздражительности, а все сказанное опытами доказано, то и силы умственные должны различествовать в каждом человеке неминуемо. Итак, не токмо развержение сил умственных будет в каждом человеке особо, но и самые силы сии разные должны иметь степени. Возьмем в пример память: посмотри, сколь один человек превосходит другого сим дарованием. Все примеры, приводимые в доказательство, что память может быть приобретенная, не опровергнут, что она есть дар природы. Войдем в первое училище и в самый первый класс, где побуждения к учению суть весьма ограниченны; сделай один токмо вопрос, и убедишься в том, что природа бывает иногда нежною матерью, иногда мачихою завистливою. Но нет; да отдалимся хуления! Природа всегда едина, и действия ее всегда одинаковы. – Что различия между умственными силами в человеках явны бывают даже от младенчества, то неоспоримо; но тот, который степению или многими степеньми отстоит от своего товарища в учении вследствие шествия естественности и законов ее, сотовариществовать бы ему не долженствовал; ибо семя, от него же рожденное, не могло достигнуть равной с тем организации, с коим оно сравнивается; ибо человек к совершенству доходит не одним поколением, но многими. Парадоксом сего почитать не должно; ибо кому не известно, что шествие природы есть тихо, неприметно и постепенно. Но и то нередко бывает, что наченшееся развержение останавливается, и сие бывает на счет рассудка. Если бы в то время, когда Нютон полагал основание своих бессмертных изобретений, препят был в своем образовании и преселен на острова Южного Океана, возмог ли бы он быть то, что был? Конечно, нет. Ты скажешь: он лучшую бы изобрел ладию на преплытие ярящихся валов, и в Новой Зеландии он был бы Нютон. Пройди сферу мыслей Нютона сего острова и сравни их с понявшим и начертавшим путь телесам небесным и доказавшим их взаимное притяжение, и вещай!
Сие наипаче явственно, когда поставишь в сравнение один народ с другим, или пройдешь историю умообразия одного народа чрез несколько веков. Кажется, что сему можно бы было дать доказательства, на естественности человека основанные. Но здесь тому не место и далеко отвело бы нас от предмета нашего. Случалося, и сей опыт повторять можно довольно часто, что взятому иногда во младенчестве дикому европейцы старалися дать сходственное со своим воспитание; но оно не бывало удачно. Я здесь многих видал тунгузов, воспитанных в русских домах; но на возрасте тунгуз в силах умственных всегда почти далеко отстоял от русского. Кажется из сего заключить можно, что надобно природе несколько поколений, чтобы уравнять в человеках силы умственные. Органы оных будут нежнее и тончее; кровь, лимфа, а особливо нервенная, лучше преработанные, прейдут от отца в зародыш; и поелику есть в природе всеобщая постепенность, то и в сем случае она вероятна.
Как в постепенности таковой отстоит народ от народа, равно может отстоять человек от человека. Первый имел воспитание естественное и нравственное лучше своего отца; сыну своему мог дать лучшее своего; третий того же семейства, вероятно, изощреннее и понятнее будет первых двух.
Таким-то образом воспитание в поколениях может остановиться. Один произойдет постепенно и непрерывно, пользуяся всеми воспитания выгодами, другой, которого воспитание не было окончано, остановится на пути. Могут ли они быть равны? Природа содействует в сем случае человеку. Возьмем пример животных, коих водворить хотим в другом климате. Перемещенное едва ли к нему привыкнет, но родившееся от него будет с оным согласнее, а третиего по происхождению можно почитать истинным той страны уроженцем, где дед его почитался странником.
Таким образом, признавая силу воспитания, мы силу природы не отъемлем. Воспитание, от нее зависящее, или развержение сил, останется во всей силе; но от человека зависеть будет учение употреблению оных, чему содействовать будут всегда в разных степенях обстоятельства и все нас окружающее.
Приступим теперь к постепенности, которая примечается в природе, и обозрим ее в развержении сил умственных в человеке, которые, сказали мы, следуют во всем силам телесным. Будем восприемниками новорожденному, не оставим его ни на единое мгновение чрез все течение его жизни, и когда дойдем с ним до меты его, пребудем ему неотступны до последнего его воздыхания.
Четыре или пять месяцов после зачатия зародыш движется; сердце и глава образовалися уже прежде и исполняли свое назначение. До девяти месяцов и до самого того мгновения, когда дитя исходит на свет, члены его и органы разверзаются и совершенствуют и, достигнув степени, превыше коей дальнейшее развержение и совершенствование невозможно в матерней утробе, он лучшея требует пищи, свободнейшего движения, лучшея жизни. Легкое проницается воздухом атмосферы, уста приемлют пищу, глаза приучаются к блеску и уши к звуку; но дитя едва ли в сии минуты может равняться с растением. Чувства его ударяемы внешними предметами, все жизненные соки обращаются, он уже чувствует. Нельзя, чтобы мозг был без действительности; но он еще токмо источник чувственности, а не орган мысленный. – Итак, дитя не мыслит; болезнь учит его, что он существует, но сие чувствование едва может сравниться с движением чувственницы. Болезнь, а потом голод нудят его изъявлять их криком. – Помалу члены его укрепляются, движения его становятся сильнее, потребности величают; тогда делаются приметными в младенце побуждения. Он кричит сильнее и тем старается изъявлять свое желание. Если не удовольствован, то приходит в ярость, и сия страсть первее всех поселяется в сердце. Все внешние предметы действуют на органы чувственные младенца неотступно, и приметно становится в нем начальное образование умственных сил. Он начинает познавать различие между вещей; знает, что вкусу его льстит и что ему противно; глаза его учатся размеру, слух привыкает ко звукам; он начинает распознавать вещи едиными наименованиями; знает уже свое имя, следовательно, орган памяти также разверзся. Но хотя во всех сих случаях видна умственность, но сколь слаба она, сколь недостаточна и хуже звериного стремления. Иначе быть нельзя; он еще пресмыкается, ползает, четвероножен есть. Но уже восстает он от земли. Он зрит на выспренность; измерение ему становится свойственнее, слух тончает, прилепление к дающей ему пищу становится сильнее. Он уже изучился изъявлять свою радость; изъявление скорби было первое его движение. Улыбка его преходит в смех, ярость становится нетерпелива, все побуждения стремительнее. Память его расширяется, приметно становится суждение, но весьма недостаточно. И язык его, произносивший доселе неявственные токмо звуки, начинает произносить слова. С того времени, как младенец научается говорить, развержение его умственных сил становится все приметнее; ибо он может изъявлять все, что чувствует, и все, чего желает, словом, все, что доселе мог обнаруживать токмо криком и слезами; самые слезы проливает он реже, и помалу младенец становится дитя. Силы телесные его укрепилися, а с ними и умственные; он уже превышает оными других животных во многом, но точности в суждениях его нет. Понятия его становятся отвлеченны, хотя следует наипаче чувственности и примеру: сей его образует более всего. Страсти в нем разверзаются; рассудок начинает снискивать опору или в слышанном, или в испытанном, и дитя становится отрок. Силы телесные укрепилися; отрок обык уже употреблению своих членов, чувств и органов; умственные его силы острятся; он испытал уже свободу, уже дерзает рассуждать, но опытность его мала, и рассуждения превратны и косвенны. Блажен, как то вещает Руссо, если отрок ничего еще не мыслил, не знал ничего, был чужд рассудку. Он удален ложных понятий, предрассуждений, превратности мнений и склонностей! И все члены его достигли уже своего совершенства, все сосуды исполнены влажностей, начинают уже избыточествовать. В юноше возникает новое некое чувствование. Грудь его вздымается чаще и сильнее, весь состав его ощущает необычайное движение, чувственность его потеряла свою плавность, она зыблется и недоумевает; тихая грусть обходит его; разум, начинавший действовать, затмевается; нижняя половина лица его покрывается власами; у женщин же является временное истечение; человек уже готов для пророждения. О, любовь! о чувствование, паче всех сладчайшее! Кто возможет стремлению твоему противиться? Не безумно ли бы было таковое сопротивление? Природа влияла тебя во всю нашу чувственность на наше услаждение и на соблюдение рода человеческого.
Едва познал он вину необычайного движения своея чувственности, как старается прилепить ее к достойному предмету, и не успокоится, доколе его не сыщет. Тогда самая сия чувственность, тогда родившаяся страсть начинают напрягать силы умственные. Они получают новую от страсти упругость и, как лучи света, изливаются от среды своея во все точки круга, в котором действуют. Вот возмужалость, вот время страстей, укрепление сил умственных и возвышение их до степени для них возможной. Вот время достижения величайших истин и заблуждений; время, в которое человек уподобляется всевышнему или ниспадает ниже нижайшей степени животных.
Как трение стончевает пружины, так и силы телесные притупляются употреблением. Человек начинает расслабевать в силах своих телесных; душевные следуют за ними. Страсти исчезают, а с ними и рвение к познаниям. И хотя рассудок еще не ослабел, но вновь не делает приобретений. Новое его не движет, ибо чувства его притупели; память ослабла, и воображение потеряло крылие. И так рассудок вращается над постигнутыми истинами, но оные уже стоят все на высшем круге и не для него. Настает старость. Сия истинная зима человеческого тела и разума, сия безнадежная зима обвеснования, простирая мраз свой во весь состав человека, полагает предел всем силам его. Гибкие доселе члены начинают цепенеть; око померкло, ухо уже не слышит, не обоняет нос, и вкус остается на пряные и колющие язык яства; осязательность почти уже увяла; раздражительность фибров онемела и ярость свою потеряла; чувствительность притупела и ослабела; жизненные соки иссякли в источнике их, сердце бьет слабее, мозг твердеет; силы умственные угасают, понятие померкло, память совсем исчезла, рассудок пресмыкается и наконец истлевает совершенно. Телу для движения нужна оборона, разум нисшел до степени младенчества. Но и нить жизни преторглася! Грудь перестает дышать, сердце не бьет более, и светильник умственный потух.
Безумные! Почто слышу вопль ваш, почто стенания? Или вы хотите превратить предвечный закон природы и шествие его остановить на мгновение едино? Рыдания ваши и молитвы суть хуление. Вы мните, что всеотец вам подобен – вы скорбите, о, несмысленные! – Жизнь погасшая не есть уничтожение. Смерть есть разрушение, превращение, возрождение. Ликуйте, о, други! болезнь исчезла, терзание миновалось; злосчастию, гонению нет уже места; тягостная старость увяла, состав рушился, но возобновился. – В восторге алчныя души вас видеть, едва не впал в погрешность и заключение извлек, не дав ничего в доказательство.
Блажен, о, человек! если смерть твоя была токмо естественная твоя кончина; если силы твои телесные и умственные токмо изнемогли, и умреть мог от единыя старости. Житие твое было мудрственно и кончина легкий сон! Но таковая кончина редко бывает жребием человека. Восхищенный страстями, он носится по остриям; неумеренность раздирает его тело, неумеренность лишает его рассудка; состаревшись в бодрствующие свои лета, не ветхость дней замыкает ему очи; болезни, внедрившиеся в его тело, преторгают его дыхание безвременно и раскаевающегося на одре смертном подавляют отчаянна. Во младости неумеренность любовныя страсти, в различных ее видах, расслабляет силы телесные и умственные. О, юноша! читай Тиссо об онанизме и ужаснися. О, юноша! войди в бедственное жилище скорбящих от неумеренности любострастия; воззри на черты лиц страждущих: – се смерть летает окрест их. – Где разум, где рассудок, когда терзается чувственность? Они возникают, но мгновенно и едва блещут в простершемся мраке. Или думаешь, что орган умственный цел пребудет, когда органы жизни нарушены?
Но единая ли сия болезнь неумеренности снедает человека в силах его телесных и умственных! Посмотри на болящего огневицею, воззри на того, у коего повредился орган умственный. – Где ты, о, дар божественный? О, рассудок! где ты?...
Конец первой книги.
КНИГА ВТОРАЯ
Итак, достигли мы, странствуя чрез житие человеческое, до того часа, когда прерывается мера шествию, когда время и продолжение превращаются для него, и настает вечность. Но остановим на мгновение отходящего к ней, заградим врата ее надеждою и воззрим на нее оком беспристрастным. Да не улыбнется кто-либо при сем изречении! Сколько возможно иметь пристрастия к вещественности, равно возможно и к единой мысленности, хотя бы она ни что иное была, как мечта. Воззри на описание рая, или жилища душ, во всех известных религиях; розыщи побуждение страдавших за исповедание; устреми взор твой на веселящегося Катона, когда не оставалося ему ни вольности, ни убежища от победоносного Юлиева оружия: увидишь, что и желание вечности равно имеет основание в человеке со всеми другими его желаниями.
Надежда, бывшая неотступною сопутницею намерений в человеке, не оставляет занесшего уже ногу во гроб. Надежда путеводительствует его рассудку, и вот его заключение: “я жив, не можно мне умереть! я жив и вечно жить буду!” Се глас чувствования внутреннего и надежды вопреки всех других доводов. Кто может убедиться, если убеждение свое захочет основать единственно на внутреннем чувствовании, что он мертв быть может? Чувствовать и бесчувственну быть, жизнь и смерть суть противоречия, и если бы, как то мы видели, не имели мы основанием к рассуждению правила сходственности, то сего заключения нам сделать бы было невозможно; ибо познания не суть нутрозрительны. Но я зрю, что все, окрест меня существующее, изменяется; цвет блекнет и валится, трава иссыхает, животные теряют движение, дыхание, телесность их разрушается; то же вижу и в подобных мне существах. Я зрю везде смерть, то есть разрушение; из того заключаю, что и я существовать престану. И кажется, если бы удалено было от мысленности нашей понятие о смерти, то живый ее бы не понимал; но смерть всего живущего заставляет ожидать того же жребия.
Представим себе теперь человека удостоверенного, что состав его разрушиться должен, что он должен умереть. Прилепленный к бытию своему наикрепчайшими узами, разрушение кажется ему всегда ужасным. Колеблется, мятется, стонет, когда, приближившись к отверстию гроба, он зрит свое разрушение. Ты есть!.. Час бьет, нить дней твоих прервется, ты будешь мертв, бездыханен, бесчувствен, ты будешь ничто! – Ужасное превращение! чувства содрогаются, колеблется разум! трепещуща от страха и неизвестности мысль истлевающая носится во всех концах возможного, ловит тень, ловит подобие, и, если удалося ей ухватить какое-либо волокно, где она уцепиться может, не размышляя, вещественность ли то или воображение, прицепляется и виснет. И возможно ли человеку быть жития своего ненавистником? Когда вознесу ногу, да первый шаг исполню в вечность, я взоры обращаю вспять. «Постой, помедли на одну минуту! О, ты, составлявший блаженство дней моих, куда идешь?..» О, глас разительнее грома! Се глас любви, дружбы! мой друг, вся мысль мятется! я умираю, оставляя жену, детей! –Свершайся, жестокое решение, я лишаюся друга! Не малодушие, возлюбленнейший мой, заставит меня вздохнуть при скончании течения дней моих. Если я равнодушно не терплю отсутствия твоего, каково будет мое лишение, если то будет в вечность.
Имея толикие побуждения к продолжению жития своего, но не находя способа к продолжению оного, гонимый с лица земли печалию, грустию, прещением, болезнию, скорбию, человек взоры свои отвращает от тления, устремляет за пределы дней своих, и паки надежда возникает в изнемогающем сердце. Он опять прибегает к своему внутреннему чувствованию и его вопрошает, и луч таинственный проницает его рассудок. Водимый чувствованием и надеждою, имея опору в рассудке, а может быть, и в воображении, он прелетает неприметную черту, жизнь от смерти отделяющую, и первый шаг его был в вечность. Едва ощутил он, или лучше сказать, едва возмог вообразить, что смерть и разрушение тела не суть его кончина, что он по смерти жить может, воскреснет в жизнь новую, он восторжествовал и, попирая тление свое, отделился от него бодрственно и начал презирать все скорби, печали, мучительства. Болезнь лютая исчезла, как дым, пред твердою и бессмертия коснувшеюся его душею; неволя, заточение, пытки, казнь, все душевные и телесные огорчения легче легчайших паров отлетели от духа его, обновившегося и ощутившего вечность.
Таковые были, вероятно, побуждения человека, да возникнет в разуме и сердце его понятие будущия жизни. Многие ее чают быть; иные следуют в том единственно исступлению; другие, и сии суть многочисленны, уверению своему имеют основанием единое предубеждение и наследованное мнение; многие же мнение свое и уверение основывают на доводах. Но каково бы ни было основание сего мнения, все вообразительные возможности будущего человеческого бытия не ускользнули от ловственного его проницания. Но были, и суть многие, которые, отметая свое чувственное уверение и надежду и оспоривая у человека будущее его бытие, старалися находить доводы, что смерть в человеке есть его последняя и совершенная кончина; что он, совершивши течение дней своих, умрет навсегда и не возможет восстать, существовать, быть ни в какой вообразительной возможности. Доводы их суть блестящи и, может быть, убедительны. Вознеся, по силе нашей, обе противоположности, я вам оставлю избирать, любезные мои, те, кои наиболее имеют правдоподобия или ясности, буде не очевидности. А я, лишенный вас, о, друзья мои, последую мнению, утешение вливающему в душу скорбящую.
Доселе почитали быть в природе два рода возможных существ. Все, к первому роду относящиеся, называют тела, а общее, или отвлеченное о них понятие, назвали вещество, материя. Вещество есть само в себе неизвестно человеку; но некоторые его качества подлежат его чувствам, и на познании оных лежит все его о веществе мудрование. К другому роду относящиеся существа чувствам нашим не подлежат, но некоторые феномены в мире были поводом, что оные почли не действием вещественности, но существ другого рода, коих качества казались быть качествам вещественности противоречащими. Таковые существа назвали духи. При первом шаге в область неосязательную, находим мы суждение произвольное; ибо, если дух чувствам нашим не подлежит, если познания наши не суть нутрозрительные, то заключение наше о бытии духов не иначе может быть, как вероятное, а не достоверное, а менее того ясное и очевидное. Кто вникал в деяния природы, тот знает, что она действует всегда единовременно или вдруг, и в сложениях, ею производимых, мы не находим черты, отличающей составляющую часть от другой, но всегда совокупность. Например, человек назвал противоречащими качествами тепло и стужу, находя действия их противоречащими; но природа и то, что тепло производит, и то, что производит стужу, вместила в единое смешение и, положив закон действованию их непременяющийся, явление оных таковым же учинила. Поистине, в природе меньше существует противоположных действий, нежели думали прежде; и то, что мы таковыми назвали, существует нередко токмо в нашем воображении.
Различие духа и вещественности произошло, может быть, от того, что мысль свойственна одной главе, а не ноге или руке. Различие таковое есть самоизвольно; ибо, не ведая, ни что есть дух, ни что вещественность, долженствовали ль бы их поставлять различными существами, да и столь различными, что если бы сложение человека не убеждало очевидно, что качества, приписанные духу и вещественности, в нем находятся совокупны, то бы сказали, что дух не может там быть, где тело, и наоборот. Но как сопряжение таковое очевидно, то вместо того, чтобы сказать: существо человеческое имеет следующие качества, напр., мыслить, переменять место, чувствовать, пророждать и проч., вместо того сказали: человек состоит из двух существ, и каждому из них назначена своя область для действования; вместо того, чтобы сказать, что то, из чего сложен мир (а кто исчислил все существа, оный составляющие?), имеет те и те свойства, сказали, что в нем находятся существа разнородные. О, умствователи! неужели не видите, что вы малейшую токмо частицу разнородности их ощутили, но что они все в един гнездятся состав. Ведаешь издревле, сколь луч солнечный далеко отстоит от простыя глины или песка; ведал, что луч солнечный тебя греет и освещает, что глина дает тебе сосуд на пищу; а ныне ведаешь, что они находиться могут в одном составе существенно. Ты ведаешь, что мысль находится в твоей главе; но ведаешь ли, с чем она еще может быть сопряжена? Тот, кто силою своего слова мог вселить ее в мозг твой, ужели бессилен был вместить ее в другое что-либо опричь тебя? О, надменность!
Но обозрим быстротечно свойства, присвоенные вещественности, и свойства мысленности и что в них может быть противоречное; или, нет ли следа, что они одинакородному существу свойственны быть могут?
Свойствами вещественности вообще почитаются следующие: непроницательность, протяженность, образ, разделимость, твердость, бездействие. Свойствами духовных существ почитаются: мысль, чувственность, жизнь. Но сии свойства, духовным существам присвояемые, поелику являются нам посредством вещественности, почитаются токмо видимыми действиями или феноменами, происходящими от духовного существа, которое может само по себе иметь сии свойства и чувствам не подлежать. Итак, вопрос настоять будет: может ли вещественность иметь жизнь, чувствовать и мыслить, или духовное существо иметь пространство, образ, разделимость, твердость, бездействие? В обоих случаях произведение будет одинаково. Если сие доказать возможно, то разделение существ на вещественные и духовные исчезнет; если же доводы будут недостаточны и найдутся доводы, противное сему доказывающие, то нужно, и нужно необходимо, поставлять бытие двух существ разнородных, духа19 и вещественности.
Вещественностию называют то существо, которое есть предмет наших чувств, разумея, есть или быть может предметом наших чувств. Ибо, если оно им не подлежит теперь, то происходит оно от малости или тонкости своей, а не вследствие своего естества. Поступим теперь к изъяснению свойств вещественности.
Непроницательностию разумеем то, что две частицы вещественности, или два тела, не могут существовать в одном месте в одно время. – Сие есть аксиома, ибо противное предложение есть противоречие. – Или, что неразделимая частица вещественности, или атом, встретившаяся на пути другой такой же частицы, сия последняя не может продолжать своего пути, доколе первая не уступит ей места. Протяженность есть то свойство вещественности, вследствие коего она занимает место в пространстве; а поелику протяженность имеет предел, то всякую ограниченную протяженность называют образом. В отношении определенности говорят, что протяженность имеет образ. Итак непроницательность, протяженность и образ суть свойства нераздельные всякого существа, чувствам нашим подлежащего. Образ дает вещественности определенность, протяженность – место, а непроницательность – отделенность.
Химические опыты доказывают чрезмерную разделимость вещественности. Но естествословы разумеют, что есть возможность, чтоб малейшая частица вещественности разделена была до бесконечности достаточною на то силою. Ибо, воображая вещественность протяженною, сколь бы частица оныя мала ни была, разум себе представить может частицы еще того меньше до бесконечности, разумея, что будет достаточная сила на их разделение.
Но как сие разделение существует токмо в возможности, и что нет естественный силы на разделение начал вещественности, то в рассуждении сего приписуют ей свойство твердости.
Бездействие в отношении вещественности есть двояко. 1-е, вещественность в состоянии покоя пребывает в нем или может пребыть вечно, доколе какая-либо причина не даст ей действия. Заметим заранее, что сие свойство не есть качество существенное вещественности, но относительное, поелику ее почитать можно лишенною движения. 2-е, понятие о вещественности есть частица вещественности, в движение приведенная, которая продолжит движение свое с одинакою скоростию и в одинаковом направлении вечно, доколе что-либо не воспретит сему продолжению, или оное не преобразит.
Движение есть свойство пременять место. Иные говорят, что свойство сие вещественности существенно и от нее неотделимо. Другие почитают, что причина движения в вещественности не существует; а некоторые утверждают, что причина движения, для продолжения оного, должна быть присносущна и происходит от существ, отличных от существа, имеющего непроницательность, протяжение, образ, разделимость и твердость; словом, что причина движения в вещественности не существует и быть в ней не может.
Тяжесть есть свойство, вследствие которого тело падает к средине земли, и частицы вещественности стремятся к их средоточию. Последственностями оныя почитают притяжение и отражение.
Притяжение есть свойство, вследствие которого тела или частицы вещественности сближаются одна с другою. Отражение есть свойство сему противоположное, и вследствие которого тела или частицы одна от другой отдаляются.
Те, которые делают движение вещественности сосущественным, те оной не отрицают ни тяжести, ни притяжения, ни отражения. Но другие почитают сии свойства не свойствами, но явлениями и действиями причин, вне вещественности находящихся и ей несосущественных.
Рассмотрим поодиночке сии, вещественности приписываемые свойства; побудим себя умствовать над сими остатками древнего учения, которое распространившиеся опыты, и с ними лучшее познание естественности, опровергнут неминуемо. Свойства веществ столь разновидны, начала оных столь разнородны, смежность же их, посредственная по крайней мере, столь размножена и может быть всеобщая, что рассуждения об общих свойствах, вещественности приписуемых, основанных на отвлеченных понятиях, вероятно, поростут мхом забвения и презрения, как ныне Аристотелевы категории и сокровенные качества алхимистов. Ибо вопроси каждого беспристрастного: что есть вещественность? Ответ будет: не ведаю! А если к сему присовокупим, что химия доказует, что начала первенственных веществ суть весьма различных свойств, и хотя она еще держится древнего разделения стихий, но то, что мы называем земля, вода, огонь, воздух, суть сложности. Стихийной земли никто еще не видал, и надежда некоторых видеть ее в алмазе исчезла с того времени, как опыты доказали, что он сгорает и возлетается. Кто возжигал огонь стихийный? Луч солнечный, раздробленный призмою, не есть одинакороден20. Самая электрическая искра, пременяя цвет подсолнечной окраски, серный ее запах, не суть ли доказательства ее сложности, и нет ли вероятности, что удачные опыты отделят когда-либо свет от теплоты? Опыты одного доктора Пристлея, не говоря о последствующих, показали, сколь вещество, нами вдыхаемое, есть сложно, и что то вещество, которому можно оставить имя воздуха, не самую большую часть составляет воздуха атмосферического. Кто скажет ныне с прежним убеждением, что упругость есть свойство воздуха собственно, а не другого какого вещества воздухообразного? Не говоря о водяных частицах, в воздухе содержащихся, не говоря о веществах обонятельных и всех других, из тел истлеваемых испаряющихся, а наипаче алкалических, ныне ведают, что так называемая кислость или твердый воздух, кислость селитренная, воздух горячий21, разделенны плавают в воздухе атмосферическом, ибо их можно из него извлечь; и что они суть его части существенные, ибо отдели их от него, воздух уже изменился. Что такое есть вода, ныне стало известно. Отсутствие из нее огня делает ее твердою, так нельзя ли сказать, что она, по существу своему, тело твердое? Отреши давящие ее столпы воздуха, увидишь, что она растянется, увеличится, воспарится и сама представится в виде воздуха. Вообрази себе пустоту вместо атмосферы окрест земного шара, водимый опытами, ты землю узришь безводну и иссякшую, все, на ней живущее, исчезнет, растущее увянет и сгорит, распадется самая кристаллизация, и все явления, в след действиям воды идущие, минуют. О, ты, основание земли, гранит, громада необъятная! Ты рассядешься, и шар земный воспылится.
Но обратимся к свойствам вещественности, и прежде всего посмотрим, столь ли приписуемые ей непроницательность и твердость ей нужны и необходимо истекают из понятия о вещественности. Если в понятия непроницательности заключается только то, что два тела, или атома, или две частицы того, что составляет вещественность, не могут находиться в одно время на одном месте, то сие можно разуметь не токмо о вещественности, но и о всяком существе, какого бы рода оно ни было. Ибо, поелику чувственностию имеем мы представление о вещах, а разумом получаем понятия, то есть познания их отношений; и поелику общее всех представлений есть пространство, общее всех понятий есть время, а общайшее сих общих есть бытие, то, что себе ни вообрази, какое себе существо ни представь, найдешь, что первое, что ему нужно, есть бытие, ибо без того не может существовать о нем и мысль; второе, что ему нужно, есть время, ибо все вещи в отношении или союзе своем понимаются или единоеременны, или в последовании одна за другою; третие, что ему нужно, есть пространство, ибо существенность всех являющихся нам существ состоит в том, что, действуя на нас, возбуждают они понятие о пространстве и непроницательности, и все, что ни действует на нашу чувственность, имеет место и производит в нас представление о протяжении посредством своего образа, равномерно производит в нас представление о непроницательности, поелику одна вещь, действуя на нас из места, дает нам чувствовать, что не есть другая, что заключает в себе понятие непроницательности; общее же понятие непроницательности и протяжения есть пространство. Итак все, что имеет бытие во времени и пространстве, заключает в себе понятие непроницательности; ибо и познания наши состоят токмо в сведении бытия вещей, в пространстве и времени.
Одна первая причина всех вещей изъята из сего быть долженствует. Ибо, поелику определенные и конечные существа сами в себе не имеют достаточной причины своего бытия, то должно быть существу неопределенному и бесконечному; поелику существенность являющихся существ состоит в том, что они, действуя на нас, производят понятие о пространстве и, существуя в нем, суть самым тем определенны и конечны, то существо бесконечное чувственностию понято быть не может и долженствует отличествовать от существ, которые мы познаваем в пространстве и времени. А поелику познание первыя причины основано на рассуждении отвлечением от испытанного и доказывается правилом достаточности, поелику воспящено и невозможно конечным существам иметь удостоверение о безусловной необходимости высшего существа, ибо конечное от бесконечного отделенно и не одно есть; то понятие и сведение о необходимости бытия божия может иметь бог един. – Увы! мы должны ходить ощупью, как скоро вознесемся превыше чувственности.
Но понятие непроницательности заключает в себе и то свойство, которым означается, что одна вещь чрез другую проходить не может. Приложив сие к телам, едва ли сие свойство какому-либо приписать возможно; ибо опыты доказывают, что наитвердейшие проницаются воздухом и водою, а огню нет ничего непроницаемого. Если бы здесь было место приводить в доказательство опыты физические, то можно бы показать было, сколь трудно привести тело с другим в совершенное соприкосновение. Сверх того известно, что во всяком теле гораздо более находится пустоты, нежели согруждения. Сие особливо явствует из жидких тел, кои удивительно растягиваться и сжиматься могут, что и было поводом утверждать многим, что все твердое вещество, в системе солнечной содержащееся, можно вместить в одну ореховую шелуху; столь велика пустота в наигустейших телах в сравнении их твердых частей. Если же к сему рассудим, сколь, посредством химических смежностей, разные вещества смеситься могут и из таковых смешений происходят совсем новые вещества, то едва ли не вероятно, что непроницательность в последнем смысле есть токмо вымышленное, а не действительное свойство вещественности.
Что мы сказали о непроницательности, как могущем быть свойстве всякого вещества, то же можем сказать о протяженности и о образе, который есть определенность протяжения. Ибо, сколь скоро какое-либо вещество занимает место в пространстве, то занимать его долженствует определенно; сколь скоро имеет место в пространстве определенное, то имеет уже образ, то есть протяженно, ибо образ есть определение протяжения. Сие понятие протяженности и образа столь свойственно нашему разуму, наиотвлеченнейшие свои понятия почерпающему из веществ, чувствам подлежащих, что понятие, им противолежащее, он представляет себе токмо отрицательно.
Вследствие данного изъяснения бесконечная разделимость вещественности есть свойство токмо воображенное, а не существующее, в чем признаются сами те, кои ей оное приписывают, говоря, что оно ей существенно, поелику возможно, и если бы достаточная была сила на произведение сего разделения, то бы оно произошло действительно. Я не возьмусь опровергать возможности, ибо несуществующее есть токмо мечта и опровержения не заслуживает. Если бы кто захотел сию разделимость распространить на самого бога, то стоил ли бы он единого на опровержение слова? – Улыбнемся безумию и замолчим.
Впрочем, можно сию разделимость распространить и на умственное вещество; ибо, поелику оно в протяженном заключено, а протяженность не токмо мыслию, но и действительно разделить можно, то для чего же неразделимым почитать вещество мыслящее, хотя действие оного неразделимо есть? Прейдем замысловатые бредни; ибо сколь ни замысловаты они, но все бред.
Твердость есть то свойство вещественности, которое препятствует ее бесконечной разделимости. Нет силы в мире вещественном, говорят естествословы, которая бы возмогла разделить стихийные начала. Согласимся на сие охотно, ибо опыты благоприятствуют сему мнению и делают его аксиомою. Кто не видит теперь, что твердость есть свойство, разделимости противоречащее, и что они в одном существе не могут быть совокупны. Ибо, с одной стороны, разделимость представляет разрушение малейших частиц до бесконечности, то есть доколе разум себе ее вообразить может (возможно ли так заблуждать и воображение пустое делать бытием?), с другой стороны, твердость препятствует разделению и, содержа стихийные начала плотными, представляет разрушению оплоту непреоборимую (действие воображения и здесь явно). Скажите, о, вы, у коих рассудок не затмился предубеждениями учебными и предрассудками школы, скажите ваше о сем решение!
Оставя теперь воображенное свойство, скажем нечто о действительном, и посмотрим, твердость тел столь ли им свойственна и необходима, как то уверяют учители.
Непрекословно надеюся, согласятся, что тело, занимающее место в пространстве, имея протяженность и непроницательность, имеет также образ; ибо образ есть не что иное, как определение протяженности. Но сей образ не может иначе существовать, как вследствие сцепления или притяжения взаимного частей, как то скажут физики; или вследствие законов смежности, как то назовут химики. Следственно, сила, содержащая части в тесном или в отдаленном сцеплении, нужна для того, чтобы части были вместе, и нужна необходимо, потому что, если бы она не существовала, то не было бы и самыя твердости; если сцепление уничтожится, то все развалится. Сколь далеко завести может таковое предположение, всяк понять может и не довольно того, что разрушатся тела и прейдут в хаос но в сем разрушении, где никакая сила не действует, едва ли возродится ничтожество и истинная смерть. Какая пустая мысль! уродливое воображение!
Итак, нужна сила, чтобы какие-либо части вместе находилися во взаимной проницательности, или хотя просто одна близь другой. Все равно, где бы сила сия ни находилася, в самом ли веществе, или действует снаружи, она действует, она содержит в сцеплении, она дает образ; следовательно, образ без нее быть не может; уничтожается сцепление, и вещество исчезает; следовательно, сила сия всякому веществу сосущественна, и одного без другой вообразить не можно или не должно. Итак, твердость есть следствие какия-либо силы; следует, что сила сия есть причина, а существо действие, от нее происходящее.
Сколь притяжение свойственно вещественности, столь свойственно ей и отражение. Опыты доказывают, сколь трудно, а может быть, и совсем невозможно привести два вещества в истинное прикосновение; и сия отраженность есть нечто, от твердого вещества совсем отменное, действующее даже в отдаленности от тела, к коему оно принадлежать имеет. Что делает, что наиплотнейшие тела и сильнейшим сцеплением стверженные столь проницательны? Что производит упругость, сжимание и растяжение? До какой удивительной степени некоторые вещества растяжены суть или быть могут, кто не убежден опытом, тому не легко поверить может. От чего одно вещество в стеснении становится упружее? От чего другое в растяжении? Отражение существует везде, как и притяжение, и вещества, в соразмерности действия одной силы, ощущают действие и другой. Итак, некоторые справедливо заключают, что в самом деле в вещественности существуют токмо притяжения и отражения без всякой твердости. Ибо для чего предполагать твердое, если части его сплотиться не могут никогда? Заключим, что есть место в пространстве, где каждая сила существует и откуда действительность ее простирается, составляя действованию ее округу, могуществу ее соразмерную. Локк, или его истолкователь, желая изъяснить создание, говорит: вообразим себе пустое пространство, и всемогущество, вращающееся над ним, рекло: да разделится оно и отвердеет! и се явилась непроницательность, протяженность, образ. Дополним сию стихотворную и метафизическую картину и, вместо слова, явим мысль всемогущую. О, дерзновение! изрекать словом, звуком, зыблением воздуха мысль предвечную! – Да будет сила в каждой точке пространства! и се действие началося. Притяжение и отражение простерлися из среды своей действием, явился образ и протяженность, вещественность прияла существо. Удел ли был в силах сих силы всемогущия, или новые созданы, тот знает, кто их явил; а мы, во тьме непроницаемой хождая, ловя мечту или блуждение, речем, как некогда Аякс Омиров: отреши мрак от очей моих, и узрю! – Удивительно, говорит Пристлей, путеводительствующий нам в сих суждениях, что поелику твердость столь мало, кажется, имеет места в системе сей, удивительно, что мудрствовавшие давно не рассудили, что она и совсем некстати! – Друзья мои! раздробляя свойства вещественности, да не исчезнет она совсем и да не будем сами тень и мечта.
Бездействие, вследствие данного нами изъяснения, есть то состояние существа, из коего оно исступить не может, доколе что-либо его из оного не извлечет. После всего, нами сказанного, утверждать, что бездействие есть свойство природы, кажется нелепо. Безрассудный! когда зришь в превыспренняя и видишь обращение тел лучезарных; когда смотришь окрест себя и видишь жизнь, рассеянную в тысящи тысящей образах повсюду, ужели можешь сказать, что бездействие вещественности свойственно и движение ей несродно? Когда все движется в природе и все живет, когда малейшая пылинка и тело огромнейшее подвержены переменам неизбежным, разрушению и паки сложению, ужели найдешь место бездействию и движение изымешь вон? Если ты ничего не знаешь бездействуемого, если все видишь в движении, то не суемудрие ли говорить о том, что не существует, и полагать не быть тому, что есть? На что нам знать, что до сложения мира было, и можно ли нам знать, как то было? Вещественность движется и живет; заключим, что движение ей сродно, а бездействие есть вещество твоего воспаленного мозга, есть мгла и тень. Сияет солнце, а ты хочешь, чтоб свойство его была тьма; огонь жжет, а ты велишь ему быть мразом. Отступи со своим всесилием, оно смех токмо возбуждает.
Итак, показав неосновательность мнения о бездействии вещественности, мы самым тем показали, что движение от нее неотделимо. И поистине, не напрасное ли умствование говорить о том, что могло быть до сотворения мира? Мы видим, он существует, и все движется; имеем право неоспоримое утверждать, что движение в мире существует, и оно есть свойство вещественности, ибо от нее неотступно.
Неужели после всего, что мы сказали о движении, притяжении и отражении, нужно еще говорить о тяжести, дабы показать, что свойство сие есть сосущественно вещественности? Сию всеобщую силу в природе (притяжение и отражение в ее понятии заключаются), предузнанную Кеплером и доказанную Нютоном, ужели не свойством почтем естественности потому только, что причина ее сокрывается от проницания нашего, являя очам токмо свое действие? Но сила сия, действуя соразмерно плотности или сгруждению тел и отстоянию их, увеличиваяся по мере плотности и уменьшаяся по квадратам отстояния, да будет действие некоего упругого вещества, которое эфиром назвал Нютон, или что другое, мы скажем, что она есть и действует с вещественностию нераздельно, следовательно, она ей сосущественна. Да и самый эфир, сколь жидок, сколь тонок, сколь проницателен он бы ни был, не вещественность ли он сам? Но Нютон, делая его причиною, кажется, его к веществу не причел; ибо, будучи причиною, он не может иметь свойств того, что производит; ибо, кажется, нелепо сказать, что причина тяжести или притяжения сама имеет тяжесть и притяжательна. Но бытие эфира есть токмо предположенное, а не доказанное, изобретенное для объяснения ипотезы, хотя и блестящия, но ничего другого, как предположения без опытности. Если к сему прибавим, что есть тела (ибо и жидкости суть тела), осязанию подверженные, коих свойство есть не тяжесть, а сила средодалящаяся, как то огонь, воздухообразные вещества или газы, и самая вода; и кажется, что если они следуют иногда закону тяжести, то токмо в совокуплении своем и отвердении. Их свойство не есть тяжесть, не сцепление, но растяжение и возлетание или, лучше сказать, они суть и то и другое вследствие законов смежности. Я с трепетом возражаю что-либо изобретению остроумия и, дерзая противоречить Нютону, покажусь несмысленным; но как сказать можно, что огонь имеет тяжесть, и где притяжение воспаряющейся воды, лишенной воздуха и без давления атмосферы?
Сии то суть общие свойства вещественности, предлог общего естествословия, или оного метафизическая часть. Видите, сколь ненадежны суждения человеческие, сколь противоречимы, сколь оспориваемы; ибо все в оных зависит от первого изъяснения. Часто спорющиеся друг друга не понимают оттого, что разные о вещи имеют понятия, а чаще того желание заслужить имя остроумного и великого ввергает нас в область воображения, а потому и блуждения. Случается, и очень часто, что, нашед на пути опытов своих или наблюдений один факт новый, или новообразный, стараются привязать к нему все испытанные прежде и составляют систему; а поелику сие название стало несколько смешно, то изображаемым доводам дают имя теории, или умозрения. О, умствователи! держитесь опытности и пользу свою почерпайте из нее. Не тщитесь угадать, чего невозможно. То, к чему стремитеся, есть мысль всевышняя, а вы что? Нютон, сопрягая изобретенную им тяжесть с измерением и исчислением, дал ей блестящее правдоподобие, и никто не смеет ему противоречить, ибо почтение к его изобретению иссосаем почти со млеком матерним. Тяжесть существует в природе, или, паче, притяжение неоспоримо; но тяжесть небесныя системы и притяжение тел небесных, движущихся в направлении прямой линии, едва ли не рушится, когда столь же замысловатый, столь же дерзновенный разум сопряжет новые откровения воедино и тяжесть оспорить захочет. Если можно истину предчувствовать, то сие пред-чувствование вероятно.
Но обратимся к нашему предлогу и разыщем: свойства вещественности могут ли быть свойства разумного вещества, или человеческия души? Мы не скажем, да и нелепо то было бы, что чувствование, мысль суть то же, что движение, притяжение или другое из описанных выше сего свойств вещественности. Но если мы покажем, что все они могут быть или суть поистине свойства вещества чувствующего и мыслящего, то не в праве ли будем сказать, что оно и вещественность суть едино вещество; что чувственность и мысль суть ее же свойства, но поколику она образуется в телах органических, что суть силы в природе, чувствам нашим подлежащие токмо в их сопряжении с телами, от чего бывают явления; что вещество, коему силы сии суть свойственны, нам неизвестно; что жизнь, сие действие неизвестного также вещества, везде рассеянна и разновидна; что она явственнее там становится, где наиболее разных сил сопряжено воедино; что там их более, где превосходнее является организация; что там, где лучшая бывает организация, начинается и чувствование, которое, восходя и совершенствуя постепенно, досязает мысленности, разума, рассудка; что все сии силы, и самая жизнь, чувствование и мысль являются не иначе, как вещественности совокупны; что мысленность следует всегда за нею, и перемены, в ней примеченные, соответствуют переменам вещественности, то заключим, что в видимом нами мире живет вещество одинакородное, различными свойствами одаренное; что силы в нем всегда существуют, следственно, ему искони присвоены. Но как союз сей произведен, то нам неизвестно; ибо понятие наше вознестися может токмо до познания первыя причины, но тут и наш предел. И прежде всего, непроницательность сколь свойственна вещественности, равномерно и мысленности. Уже я зрю заранее толпы, на нас восстающие; улыбки презрения, осмеяние, о, если бы было одно опровержение доводов! Пребудем в стезе нашей, и да молва не отвратит нас от нашея цели. – Непроницательность, видели мы, есть то свойство какого-либо вещества, вследствие коего оно с другим не может находиться на одном месте в одно время. Если сие свойство приписано вещественности, вот как оно разумеется, или как можно разуметь о умственности. Хотя здесь повторим прежние доводы, но из порядка, нами принятого, их исключить нельзя. Все, что существует, не может иначе иметь бытие, как находяся где-либо, ибо хотя пространство есть понятие отвлеченное, но в самом деле существующее, не яко вещество, но как отбытие оного. А дабы убедиться в сем, то, если неоспоримо, что нужна пустота (как может без нее быть движение?), то место, или точка, где она есть, дать может понятие о пространстве, то есть о вместилище бытия. Следует, что мысленное вещество должно где-либо находиться. А поелику каждое из них есть вещество особенное, особым бытием снабженное, то два таковых вещества не могут быть на одном месте в одно время. Смейся, если лучше разумеешь, но воззри на себя и убедися. Где мысль твоя живет? Где ее источник? В главе твоей, в мозгу: сему учит опыт ежечасный, ежемгновенный, всеобщий. Но разум, но мысль стоящего близ тебя неужели в тебе, в мозгу твоем, для опровержения моих доводов? Всяк имеет свою главу, свою мысль, и мысль единого не есть мысль другого, и наоборот. Вы оба, или мысленности ваши, существуют не в одном месте, следовательно, непроницательны суть. Не возражай мне, что мозги ваши суть различны, или органы мысленности суть непроницательны. Напрасно, мысленность ваша такова. И если скажешь, мысленность наша отвлекает нас от телесности, и две особые мысленности могут быть совокупны относительно мыслению! – согласен; но осмотрим. Твое воображение клокочет и кипит, и где бы ты мысленно ни носился, пускай возницы твои легчае звука и быстрее света, о, тварь, се точка, и ты на ней!
Ступим шаг еще в изъяснении площадных наших доводов. Я скажу, мысленность твоя протяженна, мысленность твоя имеет образ. Вижу, вижу, смеешься, хохочешь, влечешь за собой меру и вопрошаешь: которой геометрической фигуре она подобна? Помедли и суди сам.
Протяженность есть то свойство вещества, вследствие коего оно занимает место в пространстве. Дадим еще оружие против себя. Протяженность есть то, что измерению подлежит. А поелику все, что измерению подлежит, имеет предел, то определенная протяженность или измеримость есть образ. Что мысленность твоя в мозгу заключена, о том, надеюся, не будешь спорить; что она не извне на мозг действует, и то, кажется, уступишь мне без прекословия; но во всем ли она мозгу, или в некоторой оного части, того сказать не можем. По вскрытии черепа головного нигде знаков пребывания ее не оказывалось. Но она в мозгу, и сие для нас довольно. Положим теперь, что кубическое содержание мозга есть сто дюймов, то мысленность твоя, в которой бы части ни была, сколь бы мала ни была, хотя бы была точка математическая, содержится во сто; ибо мозг измерить, свесить можно22. Если целое велико кажется, ставь дроби, ставь 0,01, 0,001, 0,000001, до возможного; все будет известная для нее дробь и измеримая.
Дав протяженность мысленности твоей, дадим ей образ, сколь ни нелепо тебе то кажется; ибо, поелику образ есть определение протяженности, мозг есть протяжен, а потому и все, содержащееся в нем. Сверх того, мозг имеет сам по себе определенный образ, следует, что и содержащееся в нем образованно. Ваятель делает сперва глиняную форму, да образует своего Аполлона. Но каков может быть образ твоей мысленности, до того мне нужды нет, да и определить того не могу. Или изведаем, что воздух и подобное ему вещество, да и всякое жидкое тело образуется по сосуду, в коем содержится. Если воздуха никто на сажень не мерил, то, кажется, для того, что содержащееся его количество в кубической сажени может содержаться равно в кубическом дюйме и растянуться на сто кубических сажен. Но если воздух неудобоизмерим, то возвесить его можно. Не бойся, не бойся, я мысленности твоей на безмен не положу. Сила электрическая, собранная в Лейденской склянице, взвешена. Кто знает протяжение и образ силы магнитныя, кто взвешивал ее? Но кто отрицать станет, что она не вещественна?
О других свойствах вещественности, поколику они могут почитаться свойствами мысленности, нужды говорить не имеем; ибо 1-е, разделимость есть свойство воображенное и несуществующее; 2-е, твердость есть свойство не столь ясно утвержденное, как то кажется при первом взгляде; 3-е, бездействие есть мечта; 4-е, движение, – мысленность один из его источников разнородных; 5-е, тяжесть, или паче притяжение и отражение. Имеет ли мысленность стремление к центру земли, того не ведаю; но питание, пророждение, жизнь, любовь и ненависть что суть?
Но если надобно кому-либо на сие доказательство, то не нужна ли сила притяжения на какое бы то сложение ни было? А если сила сия имеет точку, откуда действует, то что, паче мысленности, может быть действия средою? Оно таково в самом деле.
Если мы оком размышляющим проникнем действия природы и, собрав опыты, вознамеримся отыскать в веществах различия, то не будет нужды напрягать воображение, дабы иметь какое-либо понятие о том, что едва ли мысль постигать может. Не будем творители новых веществ, а, паче, восстановив все на единой лествице, мы явим неисчисленное вещественности разнообразие и могущество всеотца бесконечное.
Свойства вещественности, доселе предлогом нашего слова бывшие, суть токмо, так сказать, метафизические, заключалися в отвлеченнейших понятиях. Но есть свойства вещественности, или паче веществ, поелику оне нам известны, кои, проистекая от их коренного сложения, заимствуют свойства состоятельных или начальных частей веществ. Для познания такового нужно говорить о началах веществ, или стихиях, и о некоторых явлениях, первое место в природе занимающих.
Показав, что свойства вещественности суть свойства мысленности, покажем, поколику вероятно, что и мысленность есть вещественности свойство, и прежде всего вопросим, какие суть свойства вещества мыслящего, не поколику мы оное предполагаем гадательно, но поколику мы оное познаем самым делом.
Свойства мысленного вещества, или явления, кои к действию его относиться могут, суть: жизнь, чувствование, мысление. Сии свойства суть нечто более, нежели просто движение, притяжение и отражение, хотя сии силы в произведении сих свойств много участвуют, вероятно. Но поелику почитают, что движение и проч. не суть свойства веществ, чувствам нашим подлежащих, то да позволят мне удалиться от моего предмета и войти в некоторое рассмотрение о составлении тел вообще.
Начальные части всех тел называем мы стихии. Сии суть: земля, вода, воздух, огонь. Но в стихийном их состоянии мы их не знаем; мы видим их всегда в сопряжении одна с другою; да и все стихии, опричь земли, ускользали бы, может быть, от чувств наших, если бы земляных частиц в себе не содержали. Сколь стихии в чувственном их положении ни сложны, однако свойства имеют, отличающие их одни от других совсем; и если не дерзновенно будет оные определить, то скажем, что огонь, а может быть, воздух и вода суть начала движущие, а земля, или твердейшая из стихий, разумея все ее роды, есть движимое. Я не утверждаю, что вода, воздух и огонь, в самом их стихийном состоянии, суть вещества, движение производящие сами по себе, или суть токмо, так сказать, орудие другого вещества, деятельность им сообщающего; но они суть то самое, что в телах движение производит, что всякое сложение и разрушение без них существовать не могут, и что они гораздо более места занимают, нежели твердая стихия земля; что в стихийном их состоянии, сколько то из опытов понимать можно, они чувствам нашим подлежать не могут, и что земляная стихия есть единая, которой, поистине, и мы вещественности принадлежать можем.
Но опыты являют нам, что есть вещества, движение производящие, или входящие в состав тел органических и других, кои, кажется, к веществам, стихиями называемым, не принадлежат. Например: свет, хотя он есть огню совокупен; сила электрическая, хотя и имеет свойство огня; сила магнитная; стихия соли, которая, кажется, есть всеобщий разделитель, а особливо соединяяся с воздухом и водою; и, может быть, многие другие. Наблюдая их прилежно, найдешь, что они истинную имеют силу или энергию; но что она есть? То может быть ей одной известно, или давшему ее стихиям.
Дабы показать, сколь разделение веществам, нами сделанное, на движущие и движимые, есть истинно и на опытах основано, войдем в некоторые подробности о стихиях и о их сложениях.
Говоря о стихиях и о некоторых явлениях, в природе примеченных, которые, кажется, принадлежат к действованию веществ, от четырех признанных стихий отличествующих, мы видели, что оне, совокупляяся одна с другою, столь естество свое изменяют, что почти кажутся быть совсем другими веществами. Вода становится земле подобна, огонь твердеет, становится осязателен, не жжет и не светит, а присутствие воздуха явно единою тяжестию. В других сложениях, а особливо сохраняя свою жидкость, они удерживают отчасти свои свойства, отчасти, изменяяся, паки представляют совсем новые явления.
Средства, употребляемые природою на сложение стихий, кажутся быть многочисленны и различны, но часто в разнообразии своем, как нам известно, следуют одинаковым законам. Естествословы, не входя в дальние рассмотрения, уобщая понятия и восходя от одной отвлеченности к другой, а паче сделав себе систему и возгнеждая в нее все известные факты, сказали, что общий закон, вследствие коего делаются все сложения, есть притяжение. Но хотя Бюфон и говорит, что образ производит великую разность, но кристаллизация или стеклование суть ли одно? То и другое производит сцепление, но сколь оно разновидно, сколь разнообразно в действии! Говорят, что все тела находятся в сложении своем токмо вследствие сцепления, и для доказательства сего употребляют известный всем опыт двух весьма гладких поверхностей; но сие сцепление есть одно из слабейших, и если не была другая сила, что удержало бы золото под молотом, что дало бы ему столь ужасное растяжение? Ужели сцепление в стекле сильнее золота?
Одно из главных средств, природою на сложение стихий и изменение их употребляемое, есть организация. В ней действуют все стихии совокупно; в ней и другие силы явственны. Анализис частей животного дает все стихии. Но тело органическое почесть можно химическою лабораториею, в коей происходят разного рода амальгамы, сложении, разделении и проч. и производят почти новые вещества. Не говоря ни о чем другом, воззрим на сложение мозга и на продолжение его нервов. А если и то истинно, что в них существует так названная нервенная влажность, сколь отменное я существо от всего другого! Одно, что в ней сходственное примечается, есть то, что она похожа на силу электрическую и магнитную. Может быть и то, что сии оба вещества, всосанные в тело, в нем амальгамируются и передвоятся, и с другими стихиями составляют нервенную жидкость.
Что сия существует в организации животных, вероятно, и разные на то отыскаться могут убедительные факты.
Мы сказали, что свойства мысленного вещества суть: жизнь, чувствование, мысление. Жизнь есть то действие явления, чрез которое семя разверзается, растет, получает совершенное дополнение всех своих сил, производит паки семя, подобное тому, из коего зачалося; потом начинает терять свои силы и приближаться к разрушению. Сия сила есть ли единственно простое произведение, из сложения стихий происходящее, то можно будет утверждать тогда, когда искусством можно будет производить тела органические. Жизнь свойственна не одним животным, но в растениям, а, вероятно, и ископаемым, что побуждает заключать, что сила, жизнь дающая, есть одинакова, или, паче, одна является различною в разных сложениях. А поелику явное присутствие огня с действием жизни совокупно23, то и не безрассудно заключать можно, что огонь есть одно из необходимых начал жизни, если он не есть самая она.
Раздраженность примечается в телах в их разделении, воскипении. Квас и все, что ферментациею называем, не есть начало раздраженности. Раздраженность примечательна уже в растениях, а, паче, в чувственнице. Есть ли она произведение силы электрическия и какой другой, то неизвестно, но вероятно. Посмотри, как чувственница увядает от малейшего прикосновения.
Чувственность есть свойство ощущать. Опыты доказывают, что она есть свойство нервов, а физиологи приписывают ее присутствию нервенной жидкости. Чувственность всегда является с мысленностию совокупна, а сия есть свойственна мозгу и в нем имеет свое пребывание. Без жизни же в они бы нам не были известны. Итак возможно, что жизнь, чувствование и мысль суть действование единого вещества, разнообразного в разнообразных сложениях, или же чувственность и мысль суть действие вещества отличного, в сложение которого, однако же, входит если не что другое, то сила электрическая или ей подобная. Итак, если мысленность мы там только обретаем, где обретаем чувственность, если чувственность неразлучна с жизнию, то не вправе ли мы сказать, что сии три явления тел суть действия единого вещества? Ибо, хотя жизнь находим мы без чувственности, а чувственность без мысли, однако кажется быть жизни сопутницею раздраженность, что есть нижайшая токмо, может быть, степень чувственности, и если чувственность и мысль не сопутницы всегдашние жизни, то по той токмо причине, что нет всегда свойственных им органов, нервов; ибо есть и таковые вещества, стоящие, так сказать, на смежности единыя жизни и чувственности, которые для того кажутся быть мысли лишенны, что не имеют ее органа, мозга.
Прибавим еще и то: понеже в существо жизни входит частию составительною и, кажется, необходимою огонь; понеже в чувственности примечать можно явления, электрической силе подобные, что она действует на наши нервы, как то и сила магнитная; понеже чувственность кажется быть продолжением токмо мысленности, ибо и понятия и мысли все происходят от чувственности и органы сея суть продолжение органа мысленного, – то не ясно ли, что мысль, чувственность и жизнь суть свойства вещества непроницательного, протяженного, образованного, твердого, и проч.; ибо огонь и сила электрическая и магнитная суть свойства того же вещества, или оное само.
Присовокупим к сим общим рассуждениям о вещественности некоторые подробности, которые объяснят и дополнят все, что о сей материи сказать можно.
«Приписывать действию особого вещества то, что может принадлежать другому, в полном действовании веществующему, есть совсем излишнее и ненужное. Давать телу человеческому душу, существа совсем от него отменного и непонятного, есть не только излишне, но и неосновательно совсем. То, что называют обыкновенно душею, то есть жизнь, чувственность и мысль, суть произведение вещества единого, коего начальные и составительные части суть разнородны и качества имеют различные и не все еще испытанные. Если стихии толико могут изменяться в сложении своем, что совсем не похожи на свою первобытность, то почто заключать толико неосновательно и отрицать им действие того, где они части составительные? Успехи наук, а паче химии и физики, доказывают, что не невозможно когда-либо счастливыми опытами уловить природу в ее творительном, производительном стану. И хотя бы чувственность и мысль были силы от всех известных нам отличные, то как быть столь скорым в решениях наших и отрицать, что не вещественности они суть свойства и сей никак принадлежать не могут, ибо ей суть будто противоречущи?»
«Не удивительно, что те, которым природа, так сказать, чужда, кои никогда на нее не обращают ока внимательного, не удивительно, что возмечтали быть себя бессмертными. Не удивительно, что бедствием гонимые, преследуемые скорбию, болезнию, мучением, ищут прибежища превыше жизни. Но то казаться будет всегда странным, что те, коих природа есть упражнение всегдашнее, те, кои наипаче проникли в ее сокровенности, те, кои в разыскании ее таинств находят свое увеселение, что и те, когда дойдет до решения между конечныя смерти и возрождения, всегда к нему прилепляются. Столь слабость наша велика, столь возлюбляет человек бытие свое, столь боится разрушения! Сему и быть так должно, ибо во младенчестве, в детстве, в юности, во младости мы окружены всегда предметами, к жизни нас прилепляющими, окружены предубеждениями, о будущей жизни твердящими. И когда настают возмужалые лета, то совершенство жизни затмевает разрушение и его или представляет почти невероятным, или отвлекает мысли от сих предметов. Да и те, которые убедятся в противном, приспев ко гробу и чувствуя нечто необычайное, вдруг обращаются к мыслям, приобретенным в лета безрассудительные. Тот, кто совершенно и беспрестанно был блажен, тому жаль расстаться с утешительною и веселия исполненною жизнию, и для того мнит продолжать ее бессмертием. Тот, который изнемогает под тяжестию превратного счастия, тот в кончине своей зрит оным конец и, вкушав утехи когда-либо, мнит, что и оные возродятся, и сердце, надеждою упоенное, отлетает в вечность».
«Но повторю: как отыскатели деяний природы могут ошибаться в ее действиях! Пройди всю жизнь человеческую от рождения его до кончины: чувственность и мысль следуют телесности в развержении ее, укреплении, совершенствовании, расслаблении, изнеможении, и когда рушится одна, престает действие и другая».
«Что мыслит родившийся, что чувствует он? Мысли совсем непричастен, чувственность весьма слабая. Но тело начинает приращаться, и с ним чувственность и мысль. Оно укрепляется, и купно с ним чувственность и мысль. Не лучшее ли время для мысли и чувственности есть то, когда тело, получив полное свое приращение и укрепившись всеми силами своими, находится в полном и цветущем здравии? Но болезни объемлют тело, скорбь мозжит его и сверлит, силы его ослабевают, с ними и душевные. Посмотри на совершившего течение жизни: какая степень осталась в нем чувственности и мысли? Одна изгладилась, другая равняется младенчеству. Почто рыдаешь? Се одр твой, се покой тела твоего! все начала состава его притупилися, и рушиться им должно. Почто же плачешь о неизбежном, почто убегаешь неминуемого? когда жизнь прервется, увянет и чувственность, иссякнет мысль, и всякое напоминовение прелетит, яко легкий дым. Жалеешь о блаженстве своем, то ужели жалеешь и о бедствии и скорбях? Возвесь все минуты печали, болезни и превратностей, и противуположи им минуты радости, здравие и благоденствие; увидишь, что чаша злосчастия всегда протянет чашу блаженства. То и другое суть удобоисчисляемы, и заключение верно. О чем же сетуешь? Воскликни: се час мой! скажи: прости! и отыди».
«Но прежде, нежели преступим к другим предметам, радования и надежды исполненным и отгоняющим отчаяние из сердца и разума, истощим все доводы и притупим, так сказать, тем самым стрелы, душу умерщвляющие».
«Защитники души безвещественныя, несложныя и потому бессмертныя, говорят: человек имеет два уха, два глаза; осязательность его рассеяна по всей поверхности его тела; но чувствование внутреннее, от разных чувств происходящее, но мысль, от чувств рождающаяся, есть неразделима, но сведение самого себя, столь живое, столь ясное, всегда едино, просто, неразделимо; а сие побуждает заключать, что вещество, к коему оно принадлежит, также есть простое и неразделимое. А поелику неразделимое разрушиться не может, то заключить должно, что душа, по разрушении тела, пребудет неразделима, следовательно, она есть безвещественна, а потому и бессмертна».
«Скажи, возражатель, неразделимость и вечность мечтающий, скажи и истолкуй мне: как вещество простое может действовать на сложное; как действует непротяженное на протяженность? И еще того непонятнее: как непротяженное заключается в протяженности; ибо ведаем, что понятие протяженности есть неразделимому противоречущее? Как безвещественная и непротяженная твоя душа заключена в протяженное твое влагалище, того я не знаю и молчу; да и ты не знаешь и быти ей утверждаешь. Желая сделать душу, от тела твоего совсем отличную, простую, неразделимую, ты ее делаешь веществом совсем мысленным. Она уже не вещество, единственно отвлечение, точка математическая, следовательно, воображение, сон, мечта. Вещество неразделимое, простое, словом, душа твоя, есть ничтожество, бессущественность, небытие; ибо кто видал, кто ощущал, если не в мечтании, что-либо несложное, простое, неразделимое? Да и как нам себе его представить? Когда хотим изобразить точку, то говорим, что она есть конец линии. Чему же душа твоя есть окончание? Мне кажется, о, ты, бессущественность утверждающий! что житие, что услаждение телесные и мысленные тебе наскучили: оставь же нас и отыди в своя превыспренняя и веселися».
«Скажи, о, отрицатель вещественныя души! скажи, отчего находишь столь невозможным согласное действие всех чувств твоих и всех органов? Все, что существует, имеет свою цель, и все его части, способности и силы суть к оной обращены. Не в мысленности ли ты существуешь? Для чего же ты думаешь, что чувства твои, что органы не для нее суть, и она не от них? Или скажешь, что мусикийское благогласие невозможно, ибо звук единственный, нота мусикийская, неблагогласны суть? Из того, что пальцы твои на струнах скрипичных не умеют двигаться искусственно, ты заключаешь, что стройная звучность ей несвойственна. Не заключишь ли, что поелику единственная частица воздуха не может производить звука, что он не есть произведение воздуха? или, что синяя или красная отделенность луча неудобна на произведение света, что все семь отделенностей, составя луч, свет производить неудобны? Безумный! ты скоро скажешь, что и жизнь в человеке есть невозможность, ибо каждая часть тебя не есть жизнь. Смотри, куда ты забрел! не завидую тебе, поистине, ни твоей мысленности. Кто рыщет в мечтании, недостоин, чтобы оного был отлучен. Чувственность местию не замедлит; вощаные твои крылия растают от ее жаркости и, новый Икар, залетевший, куда сам не ведаешь, падешь».
«Скажи, вопрошу паки, как могли в мозг твой войти сия чрезъестественная души твоей простота и неразделимость? Возьми столь художественно изобретенное орудие на показание и деление времени, ударь его о камень, где будет сей почти разумный времени указатель? Или в каждой части? Металл, из коего он сложен, не возможет того без соразмерности в частях его, колесах и пружинах. Но ты паки говоришь, что душа твоя неразделима! Но звук, но благогласие разделимы ли суть? Орудия, оные производящие, суть разделимы, суть сложны; но не действие их, не произведение. Не от чувств ли ты мысль свою получаешь? мысль твоя неразделима; но неужели неразделимы твое ухо, око, нос? Итак, произведение твоих чувств неразделимо, и скажем твоими словами: душа твоя неразделима. Согласен, что из одной души нельзя сделать двух душ; но следует ли из того, что с разрушением твоих органов и душа разрушиться не может? Разрежь, говорит Пристлей, один шар на двое, выдут ли из того два шара? Выдут две половины, но шара не будет».
«Ужели так трудно тебе вообразить единственность чувствования и мысли, и того, что ты душою называешь, не саму по себе единственную, простую и неразделимую, но единственну и неразделиму яко действие твоих органов и твоего сложения? Вообрази себе сие нравственное, сие соборное вещество, которое мы называем общество; представь себе сенат римский или афинскую площадь. Колико частей! колико пружин! колико действий! но все идет к единой цели, все общественного жития стяжают, все мыслят одно, одного желают. Я пример тебе даю, уподобление представляю, а не сравнение. Но все твои усилия, чтоб отделить душу твою от тела, напрасны суть и бессильны».
«Не с телом ли растет душа, не с ним ли мужает и крепится, не с ним ли вянет и тупеет? Не от чувств ли ты получаешь все свои понятия и мысли? Если ты мне не веришь, прочти Локка. Он удивит тебя, что все мысли твои, и самые отвлеченнейшие, в чувствах твоих имеют свое начало. Как же душа твоя без них может приобретать понятия, как мыслить? Почто бесплодно делать ее особым от чувственности веществом? Ты похож в сем случае на того, кто бы захотел дать душу носу твоему, дать душу уху, дать ее глазу, а в осязательности твоей было бы столько душ, сколько точек есть на поверхности твоего тела. Неужели на всякое деяние тела дадим ему душу? Гортань моя возгласит песнь, и я скажу, что есть во мне вещество поющее; отверзу уста и возглаголю, а ты скажешь, что есть во мне вещество говорящее, и только для того, чтобы от телесности отбыть. Странник! ты чуждаешься матери твоей, отрицаешь чувствам мысленности происхождение. Все познания твои приходят к тебе от чувств твоих, и ты хочешь, чтоб мысленность моя была им чужда, имела существо, им совсем противоречущее24».
«Но откуда возмечтал ты, что душа твоя не есть действие твоих органов, что она бестелесна? Вниди в себя и воньми, колико телесностей на нее действуют. Все чувственные предметы, все страсти, болезнь, жар, стужа, пища, питие, – всё душу твою изменяет. Всё телесно есть: она страждет, а не тело. Может ли знать душа твоя, сие высшия степени вещество, какая мысль в ней возродится чрез одно мгновение, чего она возжелает? Может ли она, если она тела твоего управитель, может ли знать, какое будет его движение чрез час един и какое язык его произнесет слово? Окруженная со всех сторон предметами, она есть то, что они ей быть определяют. Если бы они не извещали чувства твои, что ты существуешь, если бы ты чувств лишен был (но того ли ты и желаешь, желая бессмертия?), не известен бы ты был, что ты есть, что существуешь; ибо никакая мысль в тебе не могла бы возродиться».
«Не токмо внешность, но вся внутренность царствует над твоею душою. Когда страсти возжгут огнь в крови твоей, когда неведомое какое беспокойствие обымет всего тебя, и ты, презирая все на свете и самую жизнь, течешь во след предмету, страстию вожделенному, где тогда душа твоя? Где сей устроитель твоея телесности, сей судия твоих деяний, сей царь, где он? Иногда, иногда возвысит он глас, и мечта всемогущества думает страсть усмирить мановением единым, как Эол усмирял бунтующие ветры. Но сии непокорливые его подданники, восстав с новою на него свирепостию, влекут его и, как новая Армида, заключают в цветящиеся и неощущаемые оковы».
«Но не токмо страсти умерщвляют твою душу; все потребности твои, все недостатки властвуют над нею произвольно. Ощущал ли ты когда-либо терзание глада? Ведаешь ли всю власть желудка твоего над твоею мысленностию? Когда он тощ, тело твое изнеможет, и душа расслабеет. Но ты скорее знаешь действие пресыщения. Когда избыточные соками питательными яства обильный хил влиют в твои жилы, и естественность в тебе обновляться начнет, ты знаешь то, сколь слаба тогда мысль твоя. Но вижу то, пресытился питием: обезображено лице, искажены взоры, язык коснеет, или и душа твоя причаствовала в чаше Вакха? О, вещество бестелесное! если чему другому ты неподвластна, то пьяные пары, конечно, сильно на тебя действуют. Когда ты, о, любитель духовных веществ! усумнишься в своей вещественности, то войди в сонм пьяных. Верь мне, скоро, скоро убедишься, что с телом и душа пьянеет».
«Мне скучно становится собирать еще доводы на то, что столь ясно кажется. Но я еще обращу взор твой на тебя самого. Если ты не убедился о своей вещественности тем, что видел душевные силы возрастаемы с телесными; что они расширены стали удобренным воспитанием; что воображение есть плод страны, где жительствуешь; что память твоя единственно зависит от твоего мозга, и когда он старится и твердеет, тогда и память теряет свою способность; что суть способы телесные на ее расширение, и что внимание твое утомляется напряжением: если все сие не есть тебе доказательством, войдем со мною во храмину, уготовленную человеколюбием для страждущего человечества, в хранилище болезней. Не содрогается ли, не немеет ли вождь твой духовный от сего зрелища? Если ты нетрепетно восходил на стены градские и презирал тысящи смертей, окрест тебя летавших, то здесь весь состав твой потрясется! Ты зришь твое разрушение, ты зришь конечную и неминуемую твою смертность. Не тужи о воспаленном огневицею, не жалей о лишенном ума: они варяют в мечтаниях. Верь, они нередко нас блаженнее. Болезни своей они не ведают, и душа веселящихся полна мечтаний. Но содрогнись на беснующегося, вострепещи, взирая на имеющего в мозгу чирей! О, душа, существо безвещественное! что ты и где ты? Если все доводы Эпикура, Лукреция и всех новых их последователей слабы будут на свержение твое с возмечтанного твоего престола, то желающий убедиться в истинном ничтожестве своем найдет их в первой больнице в великом изобилии».
«Если и сего тебе мало, то соглядай вседневное свое положение, когда утомленное твое тело ищет покоя. Воззри на сон. Если хочешь вообразить, что душа твоя есть раб твоего тела, и каково будет состояние ее по смерти, то рассмотри, что есть сон, и познаешь. Первое, когда мечты исполняют главу твою, скажи, властен ли ты на их произведение? Сновидения твои столь же мало от тебя зависят, как и от твоего понятия. А если можно тому верить, что сновидение есть начало пробуждения и производится внешним чем-либо, то предварено твое возражение, когда хотел сновидение отнести к действованию твоей души. Но рассмотри себя, когда пары, подъемлющиеся от желудка твоего, не тревожат мозга, когда сон твой покоен и крепок, ты не токмо не чувствуешь, но и мысль твоя недействительна. А если и то тебя не убеждает, посмотри на тех, коим болезни дают сон долговременный; спроси у них, мечтали ли они что-либо? Или думаешь, что в решении задач математических упражнялися? Впоследние скажу, воззри на объятого обмороком и чувств лишенного. Если когда-либо излишне испущенная кровь повергала тебя в таковое положение, то знаешь ты, что смерть есть, и что душа твоя от жала ее не ускользнет. И как хочешь ты, чтоб я почел душу твою существенностию, от тела твоего отделенною, веществом особым и самим по себе, когда сон и обморок лишают ее того, что существо ее составляет».
«Скажи, о, ты, желающий жить по смерти, скажи, размышлял ли ты, что оно не токмо невероятно, но и невозможно? Вообрази себе на одно мгновение, что ты уже мертв, что тело твое разрушилося. Ты говоришь, что душа твоя жива. Но она лишена чувств, следственно, лишена орудий мысли, следственно, она не то, что была в живом твоем состоянии. И если состояние ее изменилося, то вероятно ли, что она ощущать и мыслить может, чувств лишенна? А если душа будет в другом положении, то следует, что ты в душе своей будешь не тот человек, который был до смерти. Ведаешь ли, от чего зависит твоя особенность, твоя личность, что ты есть ты? Помедлим немного при сем размышлении. Сие мгновение ты, посредством чувств, получаешь извещение о бытии твоем; в следующее мгновение то же чувствуешь; но дабы уверен ты был, что в протекшее мгновение чувствование происходило в том же человеке, в котором происходит в настоящее мгновение, то надлежит быть напоминовению; а если человек не был одарен памятию, то сверх того, чтобы он не мог иметь никаких знаний, но не ведал бы, что он был не далее, как в протекшее мгновение. Если по смерти твоей память твоя не будет души твоея свойство, то можно ли назвать тебя тем же человеком, который был в жизни? Все деяния твои будут новы и к прежним не будут относиться, то что успеешь, жил ли прежде или жив будешь по смерти? Жизни сии не суть единое продолжение; они прерываются. Жить вновь и не знать о том, что был, есть то же, что и не быть. Забвенное для нас не существовало. Что не можно душе твоей сохранить памяти, о том читай многочисленные и убедительные примеры в книгах врачебных. Памяти престол есть мозг; все ее действия зависят от него, и от него единственно; мозг есть вещественность, тело гниет, разрушается. Где же будет память твоя? Где будет прежний ты, где твоя особенность, где личность? Верь, по смерти все для тебя минуется, и душа твоя исчезнет.
«По смерти все ничто,
И смерть сама ничто.
Ты хочешь знать то, где
Будешь по кончине?
Там будешь ты, где
Был ты до рожденья».
Сенека, в трагедии "Троада".
«Итак, если мозг и глава нужны для мысления, нервы для чувствования, то как столь безрассудно мечтать, что без них душа действовать может? Как может она быть, когда она их произведение, а они к разрушению осуждены? Не токмо не можно вообразить себе, что есть такое вещество простое, неразделимое, дух; но и того вообразить нельзя, чтобы они были по разрушении, хотя бы и существовали».
«Ведай, что всякое состояние вещества, какого бы то ни было, естественно предопределяется его предшедшим состоянием. Без того последующее состояние не имело бы причины к своему бытию. Итак, предрожденное состояние человека определяло его состояние в жизни, а жизненное его состояние определяет, что он будет по смерти. До зачатия своего человек был семя, коего определение было развержение. Состояние жизни приуготовляло распложение и разрушение. Когда же жизнь прейдет, почто мечтать, что она может продлиться? Человек вышел из семени, и состав его рассеменится по сложению стихий, его составлявших. И если по справедливости заключить можем из состояния человека до начатия его жизни о состоянии по скончании ее, то поелику он не имеет воспоминания, что существовал в семени, то не может иметь воспоминания по смерти о том, что был в жизни».
«Итак, о, смертный! оставь пустую мечту, что ты есть удел божества! Ты был нужное для земли явление вследствие законов предвечных. Кончина твоя приспела, нить дней твоих прервалася, скончалося для тебя время и настала вечность!»
О, ты, доселе гласом моим вещавший, тиран лютейший, варвар неистовый, хладнокровный человеконенавидец, изыскательнее паче всех мучителей на терзание! Жестокостию твоею и зверством ты превышаешь Тиверия, Нерона, Калигулу, всех древних и новых терзателей человечества! Чем свирепствовать могли они над беззащитною слабостию? Могущество их простиралось на мгновение токмо едино; владычество их за жизнь не заграбляло. Терзанию, болезням, изгнанию, заточению, всему есть предел непреоборимый, за которым земная власть есть ничто. Едва дух жизненный излетит из уязвленного и изможденного тела, как вся власть тиранов утщетится, все могущество их исчезнет, раздробится сила; ярость тогда напрасна, зверство ничтожествовать принуждено, кичение смешно. Конец дней несчастного есть предел злобе мучителей и варварству осмеяние. Но ты, простирая алчнотерзательную твою десницу за кончину дней моих, не мгновенного лишаешь меня блаженства, не скоропретекающего радования, не веселия бренного и скоролетящего. Подавляющая меня твоя рука тяжелее гнетет увядающее сердце, нежели все тяжести земные, свинец и злато и чугун. Жестокосердый! ты лишаешь даже надежды претертую злосчастием душу, и луч сей единственный, освещавший ее во тьме печалей, ты погашаешь. Лишенного на земле утех, не ожидающего веселия ни на мгновение уже едино, ты ограбляешь его надеяния возродиться на радость и на воздаяние добродетели; ты лишаешь его будущия жизни. Ужель гонители Сократа на равную с ним участь осуждены? Ужель ничтожество есть жребий всех добродетельных и злосчастных? – Но откуда твое дерзновение, откуда власть твоя, откуда веселие, разрушающее покой мой и надеяние? Или не ведаешь, что может отчаяние человека, лишенного семейства, друзей и всякия утехи? Не скроют тебя от карающия руки ни вертепы, ни леса дремучие, ни пустыни! мщение тебя преследует, настигнет тебя, веселием упоенного, и, отъемля у тебя даже средства к утехе, радованию и упокоению, исторгнет из сердца твоего более самыя жизни. Я мысль даже в тебе претру надежды будущего, и вечность отлетит, но что успею я? О, тигр! ты ее не чаешь!
Конец второй книги.
КНИГА ТРЕТИЯ
Доселе, возлюбленные мои, я, собирая все возможные в употребительные доводы, смертность души утверждающие, старался дать им возможную ясность и поставить их во всей их блистательности и прелестности, дабы тем явнее могла быть их слабая сторона, если она есть, и оказалось неправильное суждение, если где оно возгнездилось. Обтекши всю мысленность и телесность человека и проникнув даже до незримых начал вещей, мы видели только то, что нужно было видеть, дабы снискать доказательство предложенной задачи. Теперь возвратимся паки по протекшему пути и соберем все, что найти можем на подкрепление противного мнения и постараемся восстановить человечество в ту истинную лучезарность, для коей оно кажется быть создано. О, истина! непреложный орган всевышнего! спусти на блуждающего во мнениях хотя единый луч предвечного твоего света, да отлетит от меня блуждение, и тебя да узрю!
Желающему вникать в размышления о смертности и бессмертии человека, я бы нелицемерный подал совет стараться быть часто при одре умирающих своей или насильственною смертию. А тому, кто сам находился в преддверии вечности, имея полный и ненарушенный рассудок, тому в совет бы я дал в суждениях своих о смертности и бессмертии человека быть гораздо осторожным. Первый научиться бы мог познавать, что есть смерть; другой, бывши ее близок, мог бы рассуждения свои сопровождать внутренним своим чувствованием; ибо верьте, в касающемся до жизни и смерти, чувствование наше может быть безобманчивее разума. А тот, кто ее не предчувствовал николи, хотя и может иногда угадать то, что другой всею внутренностию ощущает, но чаще, основав убеждение свое на слышанном и изученном, он ему токмо изыскивать будет доказательства для убеждения других в том, в чем сам убежден был не чувствованием, не рассудком, а токмо, так сказать, наслышкою.
Я всегда с величайшим удовольствием читал размышления стоящих на воскраии гроба, на праге вечности, и, соображая причину их кончины и побуждения, ими же вождаемы были, почерпал многое, что мне в другом месте находить не удавалося. Не разумею я здесь воображенные таковые положения, плод стихотворческого изобретения, но истинные таковые положения, в коих, по несчастию, человек случается нередко. Вы знаете единословие, или монолог, Гамлета Шекеспирова и единословие Катона Утикского у Аддисона. Они прекрасны, но один в них порок – суть вымышлены.
Посторонний, а не вы, может меня вопросить вследствие моего собственного положения: какое право имею я говорить о смерти человека? – Вопрос не лишний! и я ему скажу... Но, друзья мои, вы дадите за меня ответ вопрошающему, а я возвращусь к моему слову.
Вопросим паки, что есть смерть? – Смерть есть не что иное, как естественная перемена человеческого состояния. Перемене таковой не токмо причастны люди, но все животные, растения и другие вещества. Смерть на земле объемлет всю жизненную и нежизненную естественность. Знамение ее есть разрушение. Итак, куда бы мы очей своих ни обратили, везде обретаем смерть. Но вид ее угрюмый теряется пред видом жизни; стыдящаяся кроется под сень живущего, и жизнь зрится распростерта повсюду.
Но дабы в незыблемом паки утешении устремить взоры ваши к неиссякаемому источнику жизни и к непрестанно обновляющемуся ее началу, отвратим око наше от жизни и прилепим его к тому, что свойство смертности составляет. В изъяснении, данном нами смерти, мы назвали ее переменою; и понеже смертная перемена есть общая в природе, то рассмотрим, что есть перемена вообще.
Вещь, говорим, переменяется, когда из двух противоположных определений, которые в ней произойти могут, одно перестает, другое же начинает быть действительным; например: темно в светло, легко и тяжело, порок и добродетель. Итак, перемена вообще есть прехождение от одного противоположного определения вещи к другому. Но из шествия природы явствует, что во всех переменах, в оной случающихся, находится между противоположностями всегда посредство, так, что если в ней преходит что из одного состояния в другое, первому противоположное, то между сими двумя состояниями находится всегда третие, или состояние среды, которое не иное что быть кажется, как продолжение первого состояния и изменение вещи постепенное, доколе не дойдет она до состояния противоположного. Но и сие состояние, поелику есть токмо последствие из предыдущего, можно назвать продолжением. Итак, утвердительно сказать можем, что будущее состояние вещи уже начинает существовать в настоящем, и состояния противоположные суть следствия одно другого неминуемые. Если мы хотим сие представить себе чувственно, то вообразим что-либо начинающее свое движение колообразно, которое, двигаяся в одинаковом всегда от центра отдалении, движется до тех пор, пока, дошед до того места, откуда началося его движение, останавливается. Следственно, между первою точкою, где началось движение, которую назовем настоящим состоянием вещи, до той точки, где движение ее скончалося, которую назовем состоянием противоположным, существуют столько состояний, чрез которые вещь проходить имеет, сколько суть в окружности точек. Следовательно, когда движение вещи началося от одной точки и быть долженствует колообразно, то без препятствия особой силы движение вещи колообразное продолжится до точки последней, следовательно, последняя точка есть произведение первой. Или желаете другой пример. Возьмите яйцо; вы знаете, что оно посредством насижения может оживотвориться и быть птицею. Но виден ли в яйце цыпленок, хотя не сомневаемся, что он в нем содержится? А если захотим преследовать прехождение яйца в цыпленка и ежедневно будем наблюдать его, то увидим постепенное его приращение. Сперва окажется начало жизни – сердце, потом глава, потом стан и другие части тела постепенно до того часа, как чрез 21 день созрев на исшествие, он проклюнет скорлупу яичную и, явяся пред создавшим свет живым уже существом, воскликнет аки бы: се аз на прославление твое! Из сего примера усматриваете, сколько состояний пройти имеет яйцо, дабы быть цыпленком. Из сего же видите, что все сии состояния суть непрерывны и выходят одно из другого естественно. Следственно, состояние яйца и цыпленка суть проистекающие одно от другого; следственно, насижением из яйца цыпленок выйдет, если в том что не воспрепятствует. Таково есть шествие сил естественных, что они, прияв единожды свое начало, действуют непрестанно и производят перемены постепенные, которые нам по времени токмо видимы становятся. Ничто не происходит скоком, говорит Лейбниц, все в ней постепенно.
Из всего предыдущего следует, что все переменяющееся не может быть непременно ни на единое мгновение. Ибо все переменяющееся (буде оно таково в самой вещи) иметь долженствует силу действовать или способность страдать; но действуя или страдая, становится оно не то, что было. Итак, что может воспятить стремлению перемены? Кто может? Разве тот, кто дал природе силу, кто действие ей дал, движение и жизнь. Вообрази себе напряжение всего, вообрази глубоко насажденную в естественности действительность и вещай, что может ей противостать. Катится время беспрерывно, усталости не знает, шлет грядущее во след протекшему, и все переменяющееся является нам в новый образ облеченно.
О, мера течения, шествия премен и жизни! о, время! помедли, помедли на мгновение хотя едино! – Се безрассудное желание многих, се желание внимающих гласу своих страстей и прихотей и отвращающих рассудок свой от познания вещей. Но время, не внемля глаголу безумия, течет в порядке непрерывном. Нет ни единого в нем мгновения, которое бы возможно было себе представить отделенно, и нет двух мгновений, коих бы предела ознаменовать возможно было. Не в след текут они одно другому, но одно из другого рождается, и все имеют предел един и общий.
Наималейшее мгновение разделить можно на части, которые все свойству времени причастны будут; и нет двух мгновений, где бы третие вогнездить было невозможно. А поелику время есть мера деянию и шествию, то нет двух состояний вещи, между коими бы неможно было вообразить третие, или, паче сказать, нет двух состояний, между которыми бы назначить можно было предел; ибо едва одно скончалося, другое уже существует. И сие шествие столь стесненно, столь неразрывно, что мысль наша за ним идти может токмо во след, а не одинаковою высотою; ибо вообрази себе мгновение и состояние вещи в нем, как оно уже претекло, и ты мыслишь уже в другом мгновении, и вещь находится уже не в том, в коем о ней ты мыслить стал, и мгновение уже позади тебя.
Приложим сие понятие о перемене к смертности человека. Жизнь и смерть суть состояния противоположные, а умирание средовое, или то состояние, чрез которое скончавается жизнь и бывает смерть. Мы видели, что во времени нет и быть не может отделения; мы видели, что и в состояниях вещи разделения существенного нет, и когда движение началось, то непрерывно есть, доколе не скончается. И поелику перемена есть прехождение из одного состояния в противоположное ему чрез состояния средние, одно из другого рождающиеся, то жизнь и смерть, поелику суть состояния противоположные, суть следствия одно другого, и можно сказать, когда природа человека производит, она ему готовит уже смерть. Сия есть следствие той, и следствие неминуемое. И если бы мы имели о вещах познания нутро-зрительные, то бы сия великая перемена в одушевленном, как то: прешествие от жизни к смерти, нам менее отделяющеюся казалася, нежели отделения дня от нощи25, ибо и сии существуют для того, что не можем им преследовать. Но представь себя, текущего по поверхности земли к западу ее, то есть в противную страну ее обращения; представь шествие свое шествию земли равно скорое, то, начавши течение свое во время, например, полуденное, пребудешь в полудни чрез целые сутки и, пришед паки на то место, откуда началось твое шествие, найдешь паки время полуденное. Из сего примера видим, что перемены суть токмо для нас столь отделенны в прехождениях своих, а не суть таковы по существу вещи.
Итак, не безрассудны ли наши стенания и вопль при умирании человека, если мы знаем и если уверены, что, родившись единожды, умереть ему должно? Сколь справедливее было некогда обыкновение рыдать при рождении младенца, по смерти же радоватися и расстание с умершими препровождать в пиршествах и веселиях. Когда неумолимая смерть прострет на чело мое мразное свое покрывало и узрите меня бездыханна, не плачьте, о, возлюбленные мои, не плачьте! Помыслите, что смерть уготована была при рождестве, что она неизбежна, что яко бдение уготовляет сон, а сон уготовляет бдение, то почто не мыслить, что смерть, уготованная жизнию, уготовляет паки жизнь? – Столь в мире все непрерывно. О, возлюбленные мои! восторжествуйте над кончиною моею: она будет конец скорби и терзанию. Исторгнуты от ига предрассудков, помните, что бедствие не есть уже жребий умершего.
Поелику душа и тело находятся в теснейшем союзе, как то явствует из всех их взаимных деяний, то вероятно, что смерть или скончание жизни равно касается того и другого; и если смертию изменяется тело, что видим из простого наблюдения, то должно думать, что изменяется и душа; а поелику телесности отторженная душа чувствам нашим подлежать не будет, то, что ей последует по отделении ее от тела, надлежит постигать единым рассудком.
Опыты нам показывают, что во всех органических телах суть три состояния или время в их бытии. Первое, когда органическое тело начинает подлежать чувствам нашим, то есть рождение его и жизнь; второе, когда чувства наши не ощущают в теле органическом жизненных движений, то есть смерть; и третие, когда вид и образ органического тела изменяются и от понятия чувств исчезают: сие называем разрушение, согнитие. Но сии состояния суть для чувств наших токмо отделенны, в естественности же каждая из них есть токмо звено непрерывной цепи перемен, то есть постепенные развержения и облечения одной и той же вещи в несчетные виды и явления. Итак, повторим, что жизнь и смерть и даже разрушение в своей существенности не столь разделенны, как то кажется нашим чувствам; они суть токмо суждения наших чувств о переменах вещественных, а не состояния сами по себе. Се первый луч надежды, о, возлюбленные! да торжествуют несчастные! се смерть им предстоит, се конец терзанию, се жизнь новая!
За смертию тела следует его разрушение. По разрушении же тела человеческого, части, его составлявшие, отходя к своим началам, как то мы сказали прежде, действовать и страдать не престанут, ибо не исчезнут. Между бытия и небытия есть посредство, вследствие того, что сказали выше; следовательно, одно не есть следствие другого непосредственное; следовательно, после бытия небытие существовать не может, и природа равно сама по себе не может ни дать бытия, ни в небытие обратить вещь, или ее уничтожить.
Душа, находяся в теснейшем союзе с телом, следует всем переменам, с телом случающимся, и, участвовавши в веселиях его и печалях, в здравии его и болезни, достигнет постепенно до того мгновения, когда тело умрет. Но умрет ли и душа с телом, и есть ли на сие возможность? Буде умереть она долженствует, то или все силы ее и могущества, все действия ее и страдания перестанут вдруг, и она исчезнет в одно мгновение; или, яко тело, подверженное тысяче перемен, испытает она разные образования; и в сем последствии перемен будет эпоха, когда душа, изменяся совсем, не будет душа более и, яко тело, разделяяся на части, прейдет в другие сложения. Третие кажется быть невозможным, ибо природа, как то мы видели, ничего не уничтожает, и небытие или уничтожение есть напрасное слово и мысль пустая.
Обеспокоенные в невозможности небытия, мы рассмотрим вероятность разрушения души.
Если бы душа подвержена была всем переменам, которым подвержено тело, то бы, как то мы сказали, можно было назначить мгновение, когда она совсем изменится и, яко тело, разрушаяся, не будет тело, тако и душа, теряя все свои силы помалу, распадется и не будет более душа. Но когда имеет быть сие мгновение? Разве тогда, когда не нужна она более телу, в коем испорченные органы, неспособные на содержание жизни, отчудятся и души, тогда разве душа исчезнет. Но мы видели, что тело не исчезает, что нельзя почти сказать теперь: умирает животное; ибо видели, что рождение его смерть уже ему уготовляло и разрушение. Итак, разве душа, теряя помалу свои силы, с телом будет подвержена единому жребию. Когда тело здраво и в крепости, равно и душа; тело изнемогло и заболело, равно и душа; тело умирает и распадается на части, что же будет с душою? Орудия ее чувствования и мысли разрушились, ей уже не принадлежат, весь состав уже разрушился; но ужели в ней все опустеет, все пропадут в ней мысли, воображения, все желания, склонности, все страсти, – все, и ни малейшего следа не останется? Не можно сего думать; ибо не иное сие бы было, как совершенное ее уничтожение. Но поелику силы природные, как то мы видели, на уничтожение не возмогают, то душа пребудет навсегда неразрушима, во веки не исчезнет. И поистине, как себе вообразить, как себе представить части души и неминуемое их прехождение, преобразование (полагая, что оне суть)? Части тела разрушаются, разделяются на стихии, из коих составлены были, которые паки преходят в другие составы. Части тела могут по чреде быть земля, растение в снедь животному, которое будет в снедь человеку; следовательно, человек, умерший за несколько лет прежде, будет частию существовать в другом последующем человеке. Но что будет из частей души? Какие суть стихии ее сложения, если бы она сложенна быть могла? Куда прейдут сии стихии? – Не время еще ответствовать на сии вопросы; но можете видеть, сколь ответы гадательны быть долженствуют.
Следствие всего предыдущего есть, что душа во веки не разрушится, не исчезнет, что существовать будет во веки; ибо, как бы далеко небытие от бытия ее ни отстояло, но таковое прехождение не может основываться ни в существе единыя вещи, ни в существе сложенных. Но если душа во веки жива пребудет, то будет ли она страдать и действовать? Страдать и действовать для души есть мыслить, желать и чувствовать; ибо сии суть действия и страдания мыслящего вещества. Но как возможно душе, от тела отделенной, чувствовать и мыслить; ибо орудий чувствования и мысли будет она лишена? Сие так кажется. Но понеже душа уничтожению не может быть причастна, то мысль свойственна ей пребудет, как и бытие; ибо, какое вещество то бы ни было, всякое действует вследствие своих сил и способностей, то неужели одна душа будет сил лишена и, яко первобытная вещественность, недвижима и недействуяй?
В дополнение вышесказанного присоедините и следующее размышление. Что научает нас, что мы без чувственности не могли иметь понятий, что сии суть единственно произведения ее и что самые отвлеченнейшие понятия первое начало свое имеют в чувственности? Ответ на сие самый легкий и простой: учит тому нас опыт. Но какие же имеем мы опыты, чтобы заключать, что душа в отделенности от тела будет лишенна чувствования и мысли? Никаких, поистине, не имеем и иметь не можем; то и заключение наше о сем неправильно будет, и мы отрицать станем силу в природе потому только, что она нам неизвестна. Точно бы так сие было, если бы житель Египта, видя всегда зыбкую поверхность Нила, заключал, что невозможно вообще, чтобы поверхность воды твердела. Сколь сие суждение нелепо, участвующим жаркого и мразного небесного пояса внятно. Но оно основано на существе вещей и понятий наших, от опытов происходящих. Так и мы, заключая о безмыслии души в отделении ее от телесности, заключим сходственно понятий наших, в опытности почерпнутых; но истинность заключения сего может равняться заключению жителя Египта о невозможности замерзания вод.
Из всего вышеписанного если не можно нам заключить с уверением, что душа бессмертна, если в доводах наших нет очевидности, то могло бы, может быть, для любящих добродетель найтися что-либо убедительное, дающее доводам перевес победоносный. Но из самых доводов рождаются возражения, которые, оставшись без ответа, могут почтены быть доказательствами противоположности того, что доказать стараемся. Если бы одна была возможность, что душа есть вещество само по себе, то убеждение из того последовало бы очевидное. Но доколе не опровергнутся, столь же вероятностию почтется и то, что душа, или то, что мысленным существом называем, есть свойство искусно сложенного тела, подобно как здравие или жизнь суть свойства тел органических. И сие возражение тем сильнее кажется, что оно осязательно быть зрится, а потому требует прилежнейшего рассмотрения и опровержения яснейшего и ни малейшего по себе сомнения не оставляющего.
Что обретаем мы в сложенном? Не то ли, что вещи, которые в некотором находились отдалении, соблизятся? Не то ли, что вещи, которые находилися в разделении, сообщаются, вступают в союз и составляют целое, сами становятся составительными его частями? Из сего сопряжения рождается: 1, некоторый порядок в образе сложения составительных частей; 2, силы и действительных частей чрез то изменяются; ибо в действии нового сложения то препинаемы, то споспешествуемы или переменяемы в направлении своем. Но может ли в целости сложенного явиться новая сила, которыя начало не находилося бы в действительности составляющих его частей? Невозможно, поистине невозможно. Если бы все части, все начала, все стихии вещественности были бездействующи и в покое бы находилися смертном, то сколь бы сложение их искусственно ни было, сколь бы ни изящно, погрязши в недействии и неподвижности, пребыли бы навсегда мертвы, не возмогаяй на произведение движения, отражения или какия-либо силы. И сие положение хуже было бы хаоса древнего, если было быть ему возможно; нощь вечная была бы ее сопутница, и смерть свойство первое.
Однако же примечаем мы в сложении целого благогласие или согласие, соразмерность, хотя в частях его нет ни того, ни другого. Например, звук одинаковый благогласия не имеет, но сложение многих нередко производит наивелелепнейшее. Стеклянный колокол, на котором мокрый перст движется, едва ли, кажется, производит скрып; но кто слыхал гармонику, тот ведает, колико внутренность вся от игры ее потрясается. Кирпич, камень, кусок мрамора и меди какую имеют правильность, какую соразмерность? Но взгляни на храм св. Петра в Риме, взгляни на Пантеон, и не почувствуешь ли, что и мысль твоя изящною соразмерностию сих зданий благоустрояется? Но причина сего чувствования явствует из того, что уже сказали. Благогласие, соразмерность, порядок и все тому подобное не могут без различия быть понимаемы; ибо они не что иное значат, как отношение разных чувствований между собою в том порядке, как они нам предлежали. Итак, к сим понятиям принадлежит сравнение разных чувствований, которые вообще составляют целое, частям особенно не принадлежа. Могло ли бы родиться благогласие, если бы каждый звук не оставлял по себе впечатления? Могла ли бы быть соразмерность, если бы каждая оныя часть не действовала на орган глазной? Не можно сего и вообразить, ибо действительность в целом не может возродиться, если начало ее не в частях находится. Итак, во всяком сложенном замечать нужно: 1, последование и порядок частей составительных в пространстве или времени; 2, сопряжение начальных сил и порядок, в котором они являются в их сложении. И хотя в сопряжении своем силы ограничиваются взаимно, изменяются, уничтожаются или паче препинаются, никогда из сложения, какое бы оно ни было, сила возродиться не может. Равно как бы кто, смешивая синюю краску с желтою, ожидал бы явления не зеленой, но красной. Частицы синие и желтые изменилися, но в зеленом они суть присносущны; а красное явиться бы не могло, ибо красные частицы суть другого совсем существования.
Итак, заключение извлекая из предыдущего, сказать можно: если душа наша или мыслящая сила не есть вещество само по себе, но свойственность сложения, то оная происходит, подобно благогласию и соразмерности, из особого положения и порядка частей, или же как сила сложенного, которая начало свое имеет в действительности частей, целое составляющих. Третьего, кажется, мыслить нельзя.
Благогласие, как то мы видели, проистекает из сравнения простых звуков, а соразмерность из сравнения разных неправильных частей; ибо не имеют ни одинаковые звуки благогласия, ни отделенные части соразмерности; следовательно, благогласие и соразмерность основание свое имеют в сравнении. Но где в природе существует оно, где может существовать, разве не в душе? Что есть оно, разве не действие мысленныя силы, и может ли оно быть действие чего другого? Нигде всемерно; ибо звуки сами по себе следуют токмо один за другим; в строении камни лежат токмо один возле другого, существуя каждый в своей особенности, имея бытие отделенное; а благогласие и соразмерность суть принадлежности мысли, понятия отвлеченные и без мысли бытия не были бы причастны26. Но не токмо благогласие и соразмерность, но красота, изящность всякая и самая добродетель не иначе, как в сравнении, почерпают вещество свое и живут в мысли.
Скажите, можно ли из действия какой-либо вещи истолковать ее происхождение, и может ли причина, вещь произведшая, понимаема быть из действия вещи или в нем существовать? Видя тень протяженную непрозрачного тела, можем ли что-либо заключить о причине, тело произведшей, или сказать, что она есть вина существованию тела? Так и все, что есть действие сравнения, не может почесться причиною, оное производящею. Если сказать можем, что насвист снегиря или песня канарейки родили канарейку и снегиря, то и соразмерность, порядок, красота суть сами по себе, а не произведения сравнения. Заключим, возлюбленные мои, не обинуяся, что поелику все вышесказанные свойства суть произведения сравнения, а сравнение предполагает суждение, а сие рассудок и мысль, то все, что есть произведение сравнения, не может иначе быть, как в силе мыслящей и в ней токмо одной; итак, все сложенное, поколику к сравнению относится, начало свое имеет в мысленной силе. Засим возможно ли, чтобы мысленная сила, причина, вина и источник всяческого сравнения, возможно ли, чтобы она была действие самой себя, чтобы была как соразмерность или благогласие, чтобы ее целость состояла из частей, лежащих одна вне другой? ибо все сие действие мысли предполагает и не иначе может приять действительность, как чрез нее. Итак, поелику всякое целое, состоящее из частей, одна вне другой находящихся, предполагает сих частей сравнение, поелику сравнение есть действие силы мысленныя, то неможно силу сию приписывать целому, из частей состоящему; ибо сказать сие то же будет, если скажем, что вещь происходит от своего собственного действия. Нелепость сия столь велика, что дальнейшее о сем распложение не иное что, как скуку навлечь может.
Вторая и последняя возможность, что душа, или мыслящее существо, проистекает от сложения телесных органов, состоит, как то видели, в том, что она есть сила или действительность сложенного. Дадим себе сие в задачу и рассмотрим оныя существенность, а потому и истинность.
Действительность, или сила сложенного, основание свое имеет в силах составляющих частей его. Например: шар Монгольфьеров имеет силу вознести человека превыше облаков, превыше области грома и молнии; но если бы оный не был наполнен веществом легче воздуха, нижнюю атмосферу наполняющего; если бы не был сделан из ткани, для вещества сего непроницаемой; если бы количество его не было соразмерно подъемлемой им тяжести, то не мог бы он вознестися, не мог бы сделать то действительным, что до того времени едва ли возможным почитали. Следовательно сила целого, или сложенного, проистекает из действительности частей его. Силы же частей, целое составляющих, или сходствуют с силою целого, или с оною суть несходственны. Что такое силы частей, сходствующие с силою целого, довольно ясно. Например: возьми светильник, сплетенный из десяти свещей, из коих каждая имеет светильню отделенную. В сложении своем светильник дает свет, но свет сей происходит от того, что каждая светильня горит. Раздели свещи; они дадут каждая свет; сложи их, дадут все свет совокупно, но он будет сильнее. Но здесь не рассуждается о усугублении великости сил, а о их сходственности. Взгляни на Кулибинский ревербер. Горит пред ним одна лампада, а вдавленная за ним поверхность отражает ее свет. Но сие отражение составлено из отражения всех зеркальных стекол, ревербер составляющих. Возьми одно из сих стекол: оно свет отразит; составь все вместе, они также свет отразят, но многочисленно: все будет свет, но ярче. Но мы рассуждаем, повторю, о сходственности сил, а не о великости их. Итак, силы частей могут с силою целого быть сходственны или же силы частей не сходствуют с силою целого и суть от нее отличны. Пример благогласия, происходящего от единственных и по себе особых звуков и в особенности своей ничего опричь простого звука не производящих, может здесь быть в объяснение. Слыхали ли вы, любезные мои, роговую егерскую музыку, которыя изобретатель у нас был обер-егермейстер Нарышкин и которая в действии своем с церковными органами столь может быть сходственна? Вам известно, что она исполняется посредством охотничьих рогов. Каждый рог производит один звук, и нередко звук весьма грубый; но искусством доведено, что хор роговой может играть разные музыкальные сочинения. И столь ясно действие, от общих роговых звуков происходящее, что буде находишься очень близко того места, где на них играют, то вместо благогласия слышны почти нестройные звуки. Удались от них, – зыбление воздуха, становяся плавнее в отдалении, отъемлет грубость роговых звуков, и благогласие явно. Сие может служить примером, поколику сила целого не сходствовать может о силами частей. Сие правило может иметь сотичные приложения, я примеры оному могут быть многочисленны.
Вследствие сего скажем: силы частей, из коих происходит сила мыслящая, суть с нею сходственные, то есть так же, как и она, суть силы мысленные: или же они с нею не сходствуют, то есть, что силы частей, коих сила мысленная есть произведение, суть другого существа и не мысленны. Третие посредство кажется быть невозможно. Но мы видели прежде, что всякое целое происходит от сравнения, от соображения мыслящего существа и существовать может только в нем; ибо части суть сами по себе, силы частей суть сами по себе, существуя в своей особенности, действуя каждая сама по себе, но в сложении изменяяся токмо и ограничиваяся взаимным действием, сохраняя однако же начальную свою свойственность. Упражняющимся в химии довольно известно, что соль кислая с солью алкалическою есть качества совсем отменного; произведи из них смешение, то выйдет из них совсем соль новая или соль средняя; и хотя действие соли средней не есть действие соли кислой, ни соли алкалической, однако она сохраняет в смешении своем начальное свое происхождение, заимствуя свойства обеих солей. Итак, невозможно, чтобы сила новая в целом произошла единственно от действия взаимного сил частных. Но если таковая сила новая и от частных сил отличная должна понимаема быть в целом, то нужно, чтоб было мыслящее существо, которое оную составило из сравнения или соображения частных сил. Пример, выше приведенный, о смешении краски синей с желтою сие объяснит. Увеличивательное стекло показывает их особенными и в самом их смешении; но глаз в смешении сем зрит зеленость. Таковых примеров можно из чувственности нашей почерпнуть несчетное количество. Итак, поелику происхождение силы целого, не сходствующей с силами частей, предполагает сравнение или соображение, а сии предполагают существо мыслящее, то следует, что сила мысленная не может проистекать из частей, таковой же силы не имеющих; следует, что сила, мыслящая в целом или сложенном, должна проистекать из частей, силами равными одаренных, то есть из сил мыслящих. Сие будет предлог нашего разыскания.
Сие мнение, что мысленная сила, а потому и чувственная, есть произведение частей, с нею сходствующих, при первом взгляде покажется вероятным; ибо 1, пребывания чувств наших суть различны: очи видят, уши слышат, язык вкушает, нос обоняет, осязание распростерто по всей поверхности тела; 2, когда враждебное орудие уязвит руку, боль чувствую в руке; когда огонь приближится ноге моей, в ней сжение чувствую; когда яства вкушаю, приятность оных чувствуема в моей гортани; воздух благорастворенный, растягивая легкое без раздирания, дает чувствование приятное; любовное услаждение чувствуемо наипаче в органах, на даяние жизни устроенных; 3, мы чувствуем, что мысль наша пребывание имеет в голове, и опытами знаем, что расстроенный мозг рождает расстроенный рассудок; но мозг есть тело сложное, имеющее части, следовательно, и мысли могут находиться в нем частно. Вследствие сего опыт учит, что чувствие распростерто по всем членам, а умствование скажет, что и мысль также распростерта. Но рука, от туловища отделенная, нос, от главы отъятый, что чувствуют? Но были примеры, что и без руки рука была чувствуема. Не обоняем ли часто то, что от нас отдаленно? Воззри на предстоящий тебе предлог, зажмурь потом глаза, – не зришь ли его пред собою? Отделенный от вас, о, возлюбленные мои, на целую четверть окружности земного шара, когда захочу вас видеть, воззову из внутренности мысленного хранилища образы ваши; я зрю вас пред собою, беседую с вами. Правда, се мечта, но глубоко она во мне насажденна, и, отдаленный, я живу с вами.
Рассудим еще и сие. В душе нашей находится несчетное количество понятий, познаний, склонностей, страстей, которых беспрестанная деятельность упражняет нас беспрестанно. Где находятся они? В коих частях тела лежат рассеяны? Или находятся разделенны иные там, иные инде, воспрянув единожды и никогда не повторяемы; или же все они в единую часть собираются, сопрягаются и составляют связь? Одно из двух: или каждая часть тела имеет силу мыслящую, следственно столько в человеке мыслящих сил, сколько в нем членов или паче стихийных начал; или же она есть едина. Если силы сии многочисленны, пускай каждая из них душа есть совершенная, то нужно, чтобы вое сии рассеянные души свои понятия и чувствования относили в единую среду, дабы составлялося целое; а без того, рассеянные везде, одна к другой не будет принадлежать, мысль не будет следовать мысли, ни заключение из посылок; не возможем мы ни воспоминать, ни сравнивать, ни рассуждать; одне могут быть понятия, но и то всякое по себе, отделенно, особенно, не входя ни в какую связь; и человек сего мгновения не будет ведать, тот ли он, что был за одно мгновение. Он не будет ныне то, что был вчера. Итак, нужно, чтобы для составления нашея единственности нужно, чтобы была в нас единая мысленная сила и притом неразделимая, непротяженная, частей не имеющая; ибо если в ней подозреваемы хотя будут части, то паки выйдет разногласие частей, единую среду требующих; нужно паки прибегнуть к тому, нечто соображающему, соединяющему в едино, что частями производимо, действуемо, чувствуемо, мыслимо. Следовательно, стремяся в противную стезю, мы обрящем себя там, где были прежде. И что претит нам, да назовем сие существо, особенность нашу составляющее, сию силу нашей мысленности, сие могущество, соединяющее воедино наши понятия, склонности, желания, стремления, сие существо простое, несложное, непротяженное, сие существо, известное нам токмо жизнию, чувствованием, мыслию, что претит, да существо сие назовем душею?
Не можно, друзья мои, не можно после всего сказанного усумняться более, чтобы душа в человеке не была существо само по себе, от телесности отличное, дающее ему движение, жизнь, чувствование, мысль. Она такова и есть в самом деле: проста, непротяженна, неразделима, среда всех чувствований и мыслей, словом, есть истинно душа, то есть существо, от вещественности отменное, и хотя между сими двумя и есть сходствия (действие их взаимное то доказывает), но силы, известные нам одной суть от сил другой отличны. А хотя бы кто еще и хотел назвать душу вещественною, то сие будет напрасное слово: вещь сама в себе, и то, что составляет мысль, что особенность каждого из нас составляет, наше внутреннее я пребудет ни сила магнитная, ни сила электрическая, ни сила притяжения, но нечто другое. А хотя бы она была в источнике своем с ними одинакова, то, проходя в теле органическом, в теле человека, проходя столь искусственные его органы, столь к усовершенствованию способна, что в соединении с телом она является силою лучше всех других известных сил, паче всех, лучше всех; а какова может быть усовершенствовавшись в телесности нашей, то едва нам понимать возможно. И как бы то ни было, всегда нужно мыслящее существо, чтобы было понимаемо протяженное и образованное; понимающее предшествует всегда понимаемому, мысленное идет во след мыслящему; нужно мыслящее существо для составления целого; без мыслящего существа не было бы ни прошедшего, ни настоящего, ни будущего; не было бы ни постепенности, ни продолжения; исчезло бы время, пресеклося бы движение, хаос возродился бы ветхий, и паки бы настала вечность.
Для ищущего истину нелицемерно, доказательства о бессмертии души могут распложаться по мере желания его познать сие таинство; ибо они рассеяны везде, и можно сказать, что вся природа свидетельствует о бессмертии человека. Но паче всего он в себе носит не токмо доводы и доказательства, что в смерти не есть его кончина; но он о истине сей имеет убеждение, убеждение столь сильное, что за слабостию умственных доказательств оно одно становится для него уверением. А хотя и не имеет он о бессмертии своем математическия ясности, но глас внутреннего его чувствования, но столь явная его личность, столь единственное его я, от всего в нем отделенное и все в себя собирающее, едва ли о сем, столь многим распрям подверженном предложении, едва ли не рождает в нем очевидность.
Доселе доводы мои были просто метафизические, единственно умозрительные, основанные на общем рассмотрении веществ; и хотя для кого-либо из вас убедительными быть могут, для других они покажутся слабы. Я сам знаю, чувствую, что для убеждения в истине о бессмертии человека нужно нечто более, нежели доводы умственные; и поистине, касающееся до чувствования чувствованием должно быть подкрепляемо. Когда человек действует, то ближайшая причина к деянию его никогда есть умозрительна, но в чувствовании имеет свое начало: ибо убеждение наше о чем-либо редко существует в голове нашей, но всегда в сердце. Итак, для произведения убеждения о бессмертии человека нужны чувственные и, так сказать, сердечные доводы, и тогда, уверив в истине сей разум и сердце, уверение наше о ней тем будет сильнее, тем будет тверже. Но прежде нежели мы обратим взоры наши на самих себя для отыскания доводов о бессмертии нашем, обозрим оком любопытным всю окрест нас лежащую природу; соберем рассеянные ее виды, о бессмертии человека уверяющие; потом, сошед во внутренность нашу, положим венец нашему рассуждению.
Воззри на все, окрест тебя живущее; простри любопытство твое и на то, что мы почитаем неодушевленным: от камени, где, кажется, явственна единая сила сцепления, где части, прилепленные одна к другой, существуют, как будто одна близь другой токмо положены, от камени до человека, коего состав столь искусствен, в коем стихии являются в толико различных сложениях, в коем все действователи, в природе известные, суть сложенные воедино, являют организацию превыше всего, чувствам нашим подлежащего; в коем явны кажутся быть силы, вещественность превышающие и деятельностию своею, скромностию и энергиею участвующие силе всезиждущей; от камени до человека явственна постепенность, благоговейного удивления достойная, явственна сия лествица веществ, древле уже познанная, на коей все роды оных един от другого столь мало, кажется, различествуют, что единого другому собратным почесть можно с уверением; лествица, на коей гранит, рубин и адамант, железо, ртуть и злато суть единородны алою, тюльпану, кедру, дубу; где по чреде сии суть братия мотыльку, змие, орлу, жаворонку, овце, слону, человеку; лествица, на коей кристализация и минерализация заимствуют уже силы растительной, на коей коралл, губа, мох различествуют токмо утробою, в ней же зарождаются; лествица, на коей сила растительная, расширяя в другом сложении свою энергию, преходит по-малу в раздраженность, а из сея в чувствительность, где чувственница и полип содействуют; лествица, где чувствительность, распложаяся в чувственности, совокупляется с умственною силою; где орангутанг и пешери кажутся быть единоутробны: потом все силы сии, тесняся воедино и расширив свою энергию, отверзают уста в человеке на глаголание и, влеча его насильственно в общественное сожитие, делают его способным постигать даже вселенныя зиждителя. О, смертный! воззри на свою телесность! ты еси земля, прах, сложение стихий, коего дивность толика же в камени, как и в тебе! труп твой, столь благолепый в жизни, жизненныя искры лишенный, есть снедь червию и участок согнития и разрушения. Но воззри на разум свой всеобъемлющий, – олтарь тебе готовлю: ты бог еси! Итак, двух конечных свойств заимствуя, вознесися превыше всея твари, над нею же поставлен, но не мечтай на земли быти более нежели еси. До ты человек, есть в тебе надежда, и се степень к восхождению; ты совершенствуешь и можешь совершенствовати паче и паче, и что тебе быть определенно, гадай!
Если сия постепенность, если сия лествица восхождения в веществах не есть пустой вымысел и напрасное воображение, то неминуемо надлежит предполагать вещества превыше человека и силы невидимые. От самого неодушевленного даже до человека образы организации возрастают, и по мере искусственнейшего образа многообразнее становятся в нем действующие силы; но далее человека, изящнее и искусственнее его сложения мы не знаем. Он кажется быть венец сложений на земли. Но сии сложения, сколь они ни кажутся быть различны, имеют сходственность удивительную. Во всех трех царствах растение и соблюдение твари есть усвоение, да и самое питание в животных не что есть иное, как усвоение; во всех трех царствах различие полов кажется быть для распложения необходимым, и что сие различие в царстве ископаемых нужно, кажется зарождение селитры и металов суть тому доказательства. Но сии сходственности вообще возрастают, так сказать, постепенно к совершенствованию от неодушевленного даже до человека; и если захочешь преследовать единую из начинающихся сил и обработывание ее в различных организациях, то, взяв в пример единое усвоение, увидишь, что в ископаемых производит она охрусталение, не говоря о других ее действиях, в растениях цветы и плод, в животных органы чувственные, орган мысли, мозг. Вообрази же расстояние кристалла от органа разума, и помысли, что может единая из сил естества.
Восхождение сие явно во всех сложениях. Чем сложение искусственнее, тем части, его составляющие, многообразнее, различнее и более заимствующие от нижних сложений. Все возможные силы, сколь нам они известны, соединены в человеке и действуют совокупно: в камени примечается простое усвоение; в растениях сила растущая и плодящаяся; в животных и то и другое, но паче чувствительность, мысль; а человек познает уже первую всему причину. Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, остановляется, ничтожествует? Невозможно! и если бы других не было причин, то и для того только сие было бы невозможно, что человек телесностию своею столь много различествует от умственности своей, что, находя одной его половине сходственность с веществами нисходящую, нельзя не утверждать бытие восходящей сходственности с другою его половиною.
Уверение наше, что человек в настоящем своем виде не есть организации окончание, что он есть существо двуестественное, уверение сие, почерпнутое из постепенности видов организации, почерпнутое также из постепенности в сложении естественных сил, получит немалое подкрепление, если мы рассудим, вождаяся в том прилежным природы наблюдением, что 1, никакая в природе сила не действует без органа, без свойственного ей орудия; 2, что никакая сила в природе не может пропасть, исчезнуть; а если в том и в другом последовать может убеждение, то явственно будет, 1, что в человеке есть сила, которой тело его есть токмо орудие; 2, что сила сия и по разрушении тела не уничтожается, что может всегда существовать, может жить от тела отделенна, следовательно, что она есть бессмертна.
Что сила не есть орган и, наоборот, что сила не есть действие органа, что сила без орудия, ей свойственного, нам не может быть известна, что сила существует без органа, все сие доказывает опыт. Например: сила магнитная отлична от куска стали, чрез который явны нам ее действия; ибо соверши известные с оною силою опыты, выставь завостренное железо перпендикулярно, оно будет магнит; ударь по острию, магнитную силу имеющему, она в нем исчезает; три его паки в одинаковое направление, и паки приобщится к нему прежняя сила. Из сих опытов явствует, 1, что сила магнитная существует нам невидимо, и в железе; 2, что она нам явна бывает токмо тогда, когда приходит в железо; следует 3, что железо есть орган силы магнитныя, а не действие ее; следует 4, что сила магнитная есть сама по себе. То же можно сказать и о силе электрической и проч. И кажется, 1, что все силы естественные невидимы суть и нам явственны бывают токмо, действуя чрез свое орудие; 2, что они, нашед оное, к нему прилепляются.
Если же мы обратим взоры наши на силы, явственные в организациях, то более еще убедимся, что свойственный им орган нужен, да явственны будут, что они к органу своему прилепляются, и что они оный устрояют, да сами паки явятся во всем совершенстве. Когда зерно, разверженное теплотою, начнет расти, когда яйцо начнет образоваться в птицу насижением матки, когда животное зачнется во утробе самки, не можно ли сказать, что им сообщается теплота жизненная, как то железу сила магнитная? Но се и различие силы подчиненной, единственной, какова есть магнитная, от силы жизненной. Едва сия нашла свойственный ей орган, то, прилепяся к нему, усвояет себе все стихии, все силы подчиненные; разверзает или паче творит орган свой посредством усвоения совершеннее. Орган ее совершенствует, и она с ним могуществует и достигает той вершины совершенства, которое орган ее дать ей может. Что есть сила сия, жизнь дающая? Едва ли угадать можем, если скажем, что она есть свет, эфир или что-либо им подобное. Она ли есть посредство между души и тела? Она ли есть ее вожатой на образование тела? Что бы то ни было, силе нужен орган, да действует, да явится в деяниях своих; следует, что тело наше есть орган нашея души, в коем действия ее разнообразно являются. И положим, что душа наша есть вещественна; положим, что она не иначе действует, как и другие силы; положим и то (и сие вероятно), что они в теле посредством нервов чувствовать изучилися, что посредством мозга изучились мыслить; положим и то, что она есть та же сила, которая является нам в других образах, например в движении, в притяжании, в раздражительности ; но может ли сила какая-либо пропасть, уничтожиться? Ибо, что такое назовем силы уничтожение? Мы видели, что сложенное может токмо разрушиться, но остаются части; но как вообразить разрушение силы? Даже понятие о сем есть противоречие само в себе, более противоречие, нежели сказать, что нечто в ничто обратится. Что всеоживляющий, говорит Гердер, к жизни воззвал, живет; что действует единожды, действует вечно. И понеже вообразить себе не можем, как сила какая-либо уничтожится, кольми паче нелепо есть воображать, что начало, в человеке действующее, что мыслящее его существо, что душа его уничтожиться долженствует, когда она есть сила, когда сила от органа отлична и не может быть его действие, то как вообразим ее уничтожение, уничтожение силы из всех на земли благолепнейшия, себя самою познающия, собою управляющия, в деяниях своих уподобляющияся силе творчей? Она ли может уничтожиться, когда ни единая пылинка, атом единый, не могут изыдти из пределов творения! ибо что есть уничтожение? Изъятие из вселенныя, претворение в ничто. То и другое суть пустые слова, и опровергать их будет токмо времени потеря бесплодная и невозвратная. Нет! не токмо сила, в человеке чувствующая и мыслящая, не исчезнет; но вследствие непрерывного шествия, в природе явного, она прейдет в другой вещей порядок. Ибо, если в природе явно, что нижняя организация служит для высшей; если грубые земные части в растениях претворяются в тончайшие; если сии суть снедь животным, а все служат человеку, по изречению одного автора, наивеличайшему убийце на земли; если в животных низшие и простые силы претворяются в сложнейшие и тончайшие; если сия элаборация столь приметна в нижней естественности, ужели она остановится при человеке? Если растения и самые животные служат человеку в снедь, к чему же нужен его мозг и нервенная влажность и то, что раздраженность мышц делает? Все силы стремятся выше, да в человеке соединены будут; ужели силы, в нем усовершенствованные, ни к чему не послужат? Ужели наилучшая организация определена разрушиться, не оставляя по себе ни малейшего следа? или же все силы, теснившиеся в сложении человека, будут напрасны и токмо разойтися определены? Нет; столь безрассудно божество не определяло! тут не было бы цели, ни намерения, и мысль всесовершенная, всемогущая, предвечная была бы ненацеленна! Се хуление!
Нашед для нас самих, по крайней мере, в общем шествии естественности некоторое уверение, что душа наша, яко единая из сил естественных, исчезнуть не может по разрушении тела, к нему же здесь живет прилепленна, мы постараемся отыскать в нас самих чувственных доводов, которые бы водворять могли в душе нашей ближайшее убеждение о ее нетленности; дабы из того усмотреть, угадать, или же предощутить токмо, хотя несовершенно, каково будет ее состояние по отделении ее от тела.
1. Сколь ни искусственны суть доводы Гельвециевы, что все деяния разума суть не что иное, как простое чувствование; что способность понимать, судить и заключать не что иное есть, как чувствовать способность; но хотя бы то так и было, из того следовать только может, что чувственность есть токмо орудие разумныя силы, но не действует; что чувствовать (то есть получать на чувства наши ударения предметов) есть самая сила, чувствованиям и мысли действительность дающая. Но паче наблюдения чувствований наших учат нас, что мысль от чувств совсем есть нечто отделенное; ибо когда предмет какой-либо предстоит очам моим, каждое око видит его особенно; ибо зажмурь одно, видишь другим весь предмет неразделимо; открой другое и зажмурь первое, видишь тот же предмет и так же неразделим. Следует, что каждое око получает особое впечатление от одного предмета. Но когда я на предмет взираю обеими, то хотя чувствования моих очей суть два, чувствование в душе есть одно; следовательно, чувствование очей не есть чувствование души: ибо в глазах два, в душе одно. Или же, я вижу колокол, я слышу его звон; я получаю два понятия: образа и звука; я его осязаю, осязаю, что колокол есть тело твердое и протяженное. Итак, я три чувствования имею вдруг, совсем разные, ибо получены мною разными чувствами, но вдруг, в одно мгновение; но я себе из трех чувствований составляю единое понятие, и изрекши: колокол, все три чувствования заключаю в нем. Итак, хотя все три чувствования различны, я вдруг их понимаю; и хотя понятие об образе, звуке, твердости и протяжении суть различные, но существуют в душе совокупно. Итак, чувствование или ударение предметов на чувства наши суть от понятий нашея мысленныя силы отличны.
Если же отличны суть понятия от чувствования и деяния силы от органов чувственных отличны, то наипаче отличествуют от чувственных впечатлений наши суждения, а паче того еще заключения. Суждение есть сравнение двух понятий, или познание отношений, существующих между вещей. Но вещи существуют сами по себе, каждая в своей особенности; познание же отношений их, сравнение оных предполагает сравнителя. А как вещи производят на чувства наши простые токмо ударения, то суждения от чувствований суть отличны. Не имею нужды распложать слова о заключениях и рассуждениях, которые суть извлечения из суждений. И хотя все наши понятия, суждения и заключения, и самые отвлеченнейшие идеи, корень влекут от предметов чувственных, но можно ли сказать, что отвлеченная идея есть чувственна? Они суть истинные произведения мысленныя силы; и если бы она в нас не существовала, если бы она быть могла токмо следствие нашея чувственности, то не токмо наука числ и измерения не могли бы возродиться, но исчезла бы вся нравственность; великодушие, честность, добродетель были бы слова без мысли и – о, всесильный! погубилося бы твое всемогущество. Да не возразят нам примером отроковицы, обретенной в лесах Шампании; что я покоюся и сплю, из того следует ли, что уже руки мои не осязают и ноги ходить перестали? Когда бы сила умственная не была сила по себе, Нютон был бы не лучше самоеда, и падшее на него яблоко расшибло бы ему токмо нос, и притяжение небесных тел осталося бы неугаданным.
-
Душа в человеке не токмо имеет могущество творить понятия, как то мы видели, но она есть истинный оных повелитель. Когда чувства отнесли ей собранные образа предметов, на них ударявших, когда память соблюла их в своем хранилище, кто может сам у себя отрицать силу воздавать соблюденную мысль в действительность? От сна аки бы воспрянув, велением моея души мысль облекается паки во образ свой и выходит на зрелище пред воззвавшую ее. Но сего еще мало. Протекая все исполненные образами вещей хранилища памяти, сила умственная не токмо может их по желанию своему воззывать на действительность, но, аки новая Медея, рассекая на части все образы соблюденные, творит из смешения их образ совсем новый, прекраснейший. Энеида, Генриада – суть ли простые изречения чувствований? Законоположение Ликургово паче всех земных законоположений согласнейшее во всех частях своих, есть ли произведение чувств? Иль ухо или глаз, или нос были их творители? Когда ты читаешь картину лобзания первого мужа и жены во Эдеме; когда ты воззришь на изображение последнего суда и не почувствуешь, что сотворить могла их единая токмо сила, что сила их образовала во главе Мильтона и Михаила Анжела, то и я на то согласен, отрицаю во главе твоей быть силе; ты кукла Вокансонова.
-
Ничто, по мнению моему, толико не утверждает, что душа есть сила, и сила сама по себе, как могущество ее прилепляться по произволению своему к одной идее. Сие называем вниманием. И, поистине, когда возникнет в душе воля, и велением ее воззовется от покоя идея на действительность, воззри, как душа ее обозревает, как она ее раздробляет, как все ее виды, стороны, отношения, следствия она обтекает. Все другие мысли воззываются только для того, чтобы та, на которую устремлено внимание, становилася яснее, блистательнее, лучезарнее. Сравни устремляющего на идею все свое внимание с тем, коего внимание в разные расторжено стороны. Один из них Эйлер, другой большого света стрекоза, расчесанный в кудри и ароматами умащенный щеголь. – Что душа мыслями повелевать может, доказательство тому имеем в состоянии сна и болезней, не исключая и самого безумия.
-
Сон есть то, худо еще познанное, ежедневно возобновляющееся состояние животного, в котором действие внешних предметов на все или некоторые его чувства ему бывает неизвестно. В сем положении мысленность его на приобретение новых понятий неспособна, ибо чувства внешние покоятся; но творительная ее сила не коснеет. Проходя хранилище своих мыслей, она отвлекает от сохраненных понятий свойства по произволению своему и, сопрягая их, вследствие совсем новых правил, производит образы, коих единая возможность для бдящего есть неистощимая загадка. Нет для нее невозможного; свойства, которые противоречащими быть кажутся, для силы умственной, отвлеченной от чувств, суть сходственны; из неправильного она в сновидении творит правильное, из уродливого благолепое; то, что во бдении она едва ли подозревать быти возможет, во сновидении воззывает в действительность. Происшествия целых столетий вмещает она в единую минуту; пределы пространства почти уничтожает своею быстротечностию; беспредельное она измеряет единым шагом и, преторгнув течение времени, объемлет вечность. О, сон! Брат смерти и смежность вечности! простри мрачный покров твой на томящееся сердце! да возникнут образы возлюбленных моих предо мною! Да лобжу их и блаженствую!
-
Если мысли сновидящего кажутся быть расстроены по той единственной, может быть, причине, что чрез меру живы суть, то с удивлением взирать должно на лунатиков, или ночных бродяг. Все известные о них примеры доказывают, что они в сонном своем хождении не токмо следуют правильному расположению мыслей, но что в сем положении власть мысленности над телесностию не исчезает; ибо лунатики имеют употребление своих членов подобно бдящим. Что они в сем состоянии предприемлют, поистине удивления достойно. Чужды всякого устрашения восходят на высоты, на которые во бдении с ужасом взирают. Сказать, как некоторый немецкий писатель, что они для того отважны, что не знают опасности, в которую вдаются, есть не иное что, как мнить, что можем всему назначить ясную причину. Конечно, лунатик, идущий по кровле высокого строения, не знает опасности; но опасность существует ли для него, или кто его от нее блюдет? Если тот, кто по веревке ходить изучен, опасности в том не знает, то следует ли, что и другой оныя отчужден? Опытность, искусство дают сему лучшее шествие. Лунатик, коего чувства внешние в бездействии, вождается источником чувствования и мысли душею.
6. В состоянии сна, когда душа чувств лишенна, тогда простая идея толико же жива, толико же явственна, как наиживейшее чувствование. То же самое происходит и в некоторых болезнях. Отторженная насильственно, так сказать, от союза своего с телом болезнию его, она с вящею действительностию вращается сама в себе. Наиудивительнейшие тогда бывают явления, коими врачебные летописи изобилуют. А чтобы не искать дальнейшего примера, будучи я болен жестокою лихорадкою, бывали мгновения, в которые я со врачом, предприявшим тогда мое пользование от сея болезни, говорил латинским языком столько плавно и правильно, что когда по прошествии моей болезни о том мне сказывали, я дивился тому немало; ибо хотя я разумел язык древнего Рима, но весьма посредственно, дабы не сказать худо, и никогда не изъяснял на оном моих мыслей, и всегда мне стоило великого труда сложить период единый. Итак, посредством хотя мозга, но внутреннею своею силою, душа, в каком бы ни была состоянии, не может отчудиться своея деятельности в творении мысли; и если не может творить что-либо правильное, творит хотя урода, но творит, созидает, зиждет.
7. Воззри на лишенного рассудка, воззри на беснующегося. Ты скажешь, что душа ничтожествует в них, что нет ее, что орган мысли расстроенный равняет их скоту, зверю. Но наблюди шествие его мысли. Пораженный единою идеею, он все относит к ней, все к ней прилепляет; он не так судит о вещах, как оне ему представлялися, последование его мысли не сходствует с чувствованиями, их родившими; он все сочетает новым порядком, все наклоняет под властвующую над ним мысль. Се беснование его! судит же сам; се вышняя токмо степень внимания; и для того, различныя ради хотя причины, по просторечию речем: юроде! ты еси человек божий!
-
Наблюдали ли вы когда-либо, какому направлению следует сочетание наших идей? Приметили ли вы, как с детства душа ваша училася сравнивать, измерять, училася совершенно и посредством чувств? Но как можно сказать, что чувства наши чувствовать училися? Не они, но душа; ибо образ, в глазу начертанный, был с первого дня таковый же, как днесь. Но ведало ли дитя, что есть сей образ? Взирая на Ивана Великого, чувствует ли оно уродливую его соразмерность? Или: рассматривая Баженовы образцы зданий, понимает ли, что в зодчем сем присутствен дух Браманта? Когда бы я не имел убеждения ниоткуда, что сила душевная, что разум есть особое что-либо от телесности, то вообразил бы я себе Фридрика II в его детстве, взирающего на устроение войск принцом Ангальтским, и потом стоило бы мне токмо взглянуть на его размерение долины при Молвице. Там взор веселящегося куклами; здесь око орлиное, одушевленное славы алчбою. Там есть токмо простое чувствование; здесь мысль ироя, преходящая в действительность. О, если бы, великий муж! слава твоя не стоила толиких слез человечеству, толиких стенаний! –
-
Мне кажется, одно из сильнейших доказательств обестелесности души можем мы почерпнуть из нашея речи. Она есть наилучший и, может быть, единственный устроитель нашея мысленности; без нее мы бы ничем от других животных не отличалися, и сие доказывают жившие нечаянно от людей в отдалении совершенном. Кто сказать может, что речь есть нечто телесное? Тот разве, кто звук и слово почтет за одно. Но поелику различествуют сии, тако различествует и душа от тела. Звук ознаменует слово, слово возбуждает идею; звук есть движение воздуха, ударяющего в тимпан органа слышения, но слово есть нечто живое, до тела нашего не касающееся; слово идет в душу; звук в ухе исчезает.
10. Чувственное расположение тела всякого животного уведомляет, что оно существует, что оно живет. Равно чувства напоминают человеку о его чувственности; но сие познание своего бытия в животном столь тупо, столь мрачно, так сказать, что с самопознанием человека ни в какое сравнение войти не может. Он один столь живо, столь ясно ощущает, и что он существует, и что он мыслит, и что мысль его Принадлежит ему. Когда душа его возносится к познанию истины и он ее уловляет в ее святилище, тогда-то наипаче возрождается в нем яснейшее познание бытия своего, и сия ясность его особенности, столь живая, столь единственная, столь неразделимая, знаменует внутреннее его могущество, силу в нем живую.
Возражают утверждающим души бестелесность, а потому и бессмертие, что тело действует на нее всемогущественно; но внимали ли вы когда, колико власть души над телом оное превышает? Мы видели, что мыслями она повелевает, что рождает она их; но она толико властвует или может властвовать над нашими желаниями; но не токмо над желаниями, но над самою болезнию телесною она владычествовать может, и не токмо владычествует над нею, но, яко сон, производит то невольным образом, человек может сложить с себя чувствительность самопроизвольно и жить бестелесен в самом теле. Рассмотрим все сие порознь и прейдем потом к способности совершенствования в человеке, в которой мы обрящем корень будущия нашея жизни.
11. Ежедневно и ежемгновенно испытуемая власть мысли над телесностию столь стала обычна, что мы в ней едва ли что-либо выше простого механизма обретаем. Скажи, как действует рука твоя? скажи, что движет твои ноги? в главе родится мысль, и члены ей повинуются? Или какая раздражительность, в мышцах присутственная, то производит, или электр протекает твои члены? Конечно, и то и другое, или тому подобное. Но как бывает, что мысль, и всегда почти неясная, движет член? Ты скажешь: не ведаю; и я скажу то же. Но в том согласиться должен, что сколь бы махина ни была искусственна, какая бы из вещественных сил, опричь мысли, ей ни была дана, то никогда не произведет действия подобного твоему; ей будет нужен источник движения, который живет в тебе: она себе велеть не может. Толкни ее, она движется, а без того стоит; но движение твое принадлежит тебе: ты еси единый от источников оного. И что дает всему действительность? Мысль, слово безмолвное; речешь: хощу, – и будет. Подобно, как пред началом времени, предвечна мысль возникла на действование; всесильный рек: да будет свет, – и бысть. И ты речешь себе: иди, – и шествуешь. О, человек! В округе своей ты всесилен; ты еси сын мысли! ты сын божий!
12. Колико человек властен над своими мыслями, толико же он властен и над своими желаниями и страстями. Хотя мы видим, что большая часть людей предаются стремлению оных, но суть и были примеры, что люди страсти свои совсем попрали; и хотя оно безумием кажется и казаться может и нередко то быть может, но тут видима власть души над телом, и власть сия есть самодержавна. Протеки житие древних пустынножителей и скажи, что тело их было душе не подвластно. Если удивляешься воздержанию Сципиона, не хотевшего зреть своея прекрасныя пленницы, то для чего же не дивишься воздержанию пустынножителей? Умерщвление страстей совершенное есть уродливо: ибо противоречит цели естественной; но есть явное и сильное доказательство власти души над телесностию. Если бы и душа была телесности действие и произведение организации, то примеры толикого безумия не могли быть никогда. И се видишь, что и в самом отчуждении рассудка душа действует, вследствие особых правил, и не телесно.
13. Но самые страсти, самые желания наши суть действия нашея души, а не телесности. Хотя корень их веществен есть, хотя и цель оных нередко такова же; но что дает страсти в человеке толикую энергию и силу? Что силы дает ему на преодоление препятствий? Все, что делает тело, все вяло, все тяжко. Душа действию дает жизнь, и все легко. Воззри на влюбленного, воззри на сребролюбца, воззри на алчущего славы. Или думаешь, что одна телесность их вождает? И дабы менее усомниться, что не токмо душа дает страстям ту удивительную действительность, которая в них примечается, то возьмем в пример наителеснейшую из страстей, любовь. Кто не знает, что любовь платоническая на земле есть бред, что источник и цель любви суть телесны? Но вообрази себе все, что человек любви ради подъемлет; пройди примеры многочисленные, где любовь, отделяяся своего начала, где цель свою теряя из виду, дает душе влюбленной (ей! душа влюбленна есть) столь силу превосходную, энергию толико божественную и плоти отчужденную, что любовь тогда становится мысленна. А дабы убедиться, что страсть есть действие, и действие ее единственное, то сколь скоро тело становится части причастно, то страсть исчезает. Из сего судить можем, чем предмет страсти менее веществен есть, тем она живее быть может и продолжительнее; чем удовлетворение страсти бестелеснее, тем страсть продолжительнее. О, дружба! о, страсть души усладительная! если ты на земле бываешь надежнейшая отрада сердца, то что будешь ты, когда душа, отрешенная от чувств внешних, сосреждаяся сама в себе, вознесет действительность свою на превыспреннейшую возможность? Какое будет наше чувствование, когда усретимся за пределами мира сего? Где взять ему имя, когда едва ли мысль может его постигнуть? Пускай я брежу; но бред мой мое блаженство есть; и разве зависть, разве мучительство захочет прервать мое сновидение! не бойтеся; мгновение сие изъято из пределов мира, и кто за них возможет?
14. Что душа или мысленность властвует над болезнями тела, то может быть и бывает двояко. Болезнь возможет она дать телу и болезнь отъяти. Я не утверждаю, что все болезни в мысленности имеют свое начало; сие было бы нелепо и опытам противоречуще. Но если во множестве неисчисленном оных суть несколько, которые суть мысленности действие непосредственное, то утверждаемое мною уже более нежели вероятно; равно не утверждаю, что на все болезни лекарство существует в мысленности или душе. Но если имеем примеры явные, что многие единственным и простым действием души были исцеляемы, то кажется, что бы и сии духовные лекарства достойны равное в диспеисториях заслуживать место, как то: хина, Меркурий и весь прочий аптекарский припас. Если кто спросит у меня: каким образом душа дает болезнь телу, и как она его лечит? Лечит она его, не щупая пульса и не смотря на язык; болезнь же дает, не отравляя. Более не скажу, ибо не знаю; но то, что всем известно быть может, на том основан будет мой довод.
О! вы, на коих печаль простирала свое жало, свидетельствуюся вами. Вас видел я в изнеможении телесном, вас бесчувственными я зрел, когда разящая весть блаженства вас лишенных объявляла. Или единое слово столь могущественно быть может, что угрожает жизни? Но что оно? Зыбление воздуха. Ужели он толико мгновенно может исполнятися ядом и отравою, что шлет смерть и болезни? Какая зараза рассеет в нем мгновенно; какое вещество, какое химическое действие воздух жизненный может претворить в воздух горючий и смертоносный? – Но на что печали посредство зыблющегося воздуха, – да произведет в тебе болезнь, обморок, бесчувствие? Се лист, се хартия дается тебе в руку; черты изображения на ней произвольные, И се чело твое бледнеет, мутятся взоры, нем стал язык, мраз обтекает всю твою внутренность, и труп твой валится долу. Или паче ядовитого взора баснословного василиска хартия сия и черты отраву носят? Или же зелием паче мышьяка и сулемы они упитаны? Не манкательное ли се древо, мертвящее всех, под листвием его покоющихся? Но почто же один ты страдаешь? Почто электризуем ты один? – Возлюбленные мои! нет нужды нам искать решения задачи сей инде: она имеет корень в мысли. Слово, изреченное или начертанное, возбуждает волнение мысленности. Расстроенность произведет болезнь. Душа болит, душа страждет: оттого болит и страждет тело. Когда источник отравлен, возможет ли истечение его быть здраво? Я прехожу здесь многочисленные и неисчетные примеры действия души над телом, коего конец была болезнь. Но дабы временно хотя улыбаться, говоря о страданиях человечества, мне помнится, где-то я читал, что женатый муж ощущал всегда страдание, когда жене его время приспевало разрешаться от беременности. Находят в сем примере иные отменно сходственное сложение нервов; но я признаюсь, сего истолкования не понимаю; другие же, разрешая узел, говорят: се вымышленное!
Прейдем на мгновение к увеселительнейшим предметам и ощутим души над телом действия благотворного. На всех сослатися в том можно, да и кому того испытать не случилося, или быть свидетелем самому или же слыхать от свидетелей достоверных, сколь существительные иногда бывают действия души над телом. Кому не случилося быть больным и получить или же чувствовать хотя мгновенное облегчение при посещении возлюбленных нами? Древность сохранила нам пример (жаль, что история часто не что иное есть, как рассказы), сколь душа возможет дать болезнь телу и сколь могущественно она его исцелить может.
Юноша в бодрственных и цветущих летах начал изнемогать во здравии своем; увяла лица его живость, твердость мышц его онемела, смертная бледность простерлась по челу его, и, лишенный сил, на одр возлег. Все врачебные средства, все лекарства были напрасны, и болезнь его ускользала от проницания врачующих; восседая при одре болящего, единый от них, совокупляя с искусством своим дух любомудрственный, столь редкий в сем соединении, приметил в юноше движение необычайное, когда приходила младая Стратоника, жена отца его, а его мачеха, к нему на посещение; кровь текла быстрее, взоры яснее становилися, и юноша воззывался к жизни; когда же она отходила во свои чертоги, то паки истощевалися его силы, и смертовещательная слабость обымала его паки, и каждый раз с вящим стремлением влекла его ко гробу. Удостоверяся в истине сей, он глас утешительного дружества простер во уши болящего, и, воззывая надежду в отчаявшееся блаженства сердце, извлек из стенящего сердца таинство, которое добродетель сама от себя скрывать тщилася под густейшим мраком. Краснеть, стыдитися уже немощен, вещает юноша ко утешающему врачу: кровь мерзнет, чувствую, и отлетает жизнь; се вожделенная смерть!.. Прииди, о, жизни моей жизнь! услышь последнее прощание! твой взор остановит отлетающую душу; произнесу имя твое и умолкну навеки! – Подав надежду умирающему, врач уведомляет немедленно отца о испытанном таинстве. Любя жену, но любя сына, любовь отца в хладном уже от старости теле превозмогла слабую, может быть, страсть и тем паче, что он зрел, сколь любовь сына его была целомудренна и, сокровенна в едином его сердце, довела его до преддверия гроба. – Почто скрывал ты скорбь свою от отца своего? – вещает старец. Живи, если жить можешь, с Стратоникою: она твоя! – О, любовь! богов и человеков услаждение! ты к смерти юношу приближила, ты паки ему жить повелеваешь. – Он стал здрав и верный супруг возлюбленныя Стратоники, был блажен. Если пример сей есть не что иное, как изобретение стихотворческое, то и тогда он истинен: ибо в пределах лежит естественности; есть не чрезмерный и не токмо возможный, но вероятный.
Множество есть примеров исцеления болезней без всякого врачевательного посредства. Те, кои рассудить не хотят или не умеют, находят в них всегда чудесность, и чем менее просвещения, тем чудес больше. Многие повести о таковых чудесах суть лживы, но многие могут быть вероятны; если то истинно, как то увидим, что мысль может человека лишать чувствительности, то для чего дивиться, что надежда излечения излечить может? Примеры таковые бывали и бывают и, отложа все баснословное из происшествия излечившейся девки в Москве после сновидения, что она выздоровела без лекаря, то правда. Приписывают то непосредственному содействию божества, то есть противоестественному действованию его могущества. О, всевышний! Уста мои заграждены на таковое существа твоего уничижение! Действие то божественный силы, то истинно; оно есть непосредственно или является чрез посредство какое-либо, того не ведаю; оно чудесно, ибо необыкновенно. Но как быть ему чрезъестественну? Всеотче! Ты еси повсюду! Почто ищу тебя, скитаяся? Ты во мне живешь; и если мы помыслим, то чудеса твои ежечасно возобновляются, но не исходя за пределы естественности; в ней нам ты явен, явен впоследствие непреложных и непременных ее законов, тобою положенных. Естественность твоя есть чувственность; что ты без нее, как ведать нам?
15. Что мысленность и телесность в тесном находятся сопряжении, то всяк ощущает; что действия их суть взаимные, то всякому известно; но что человек забывать может свою телесность и жить почти в своей душе или мысленности, тому не все верят; да и не всяк толико властвующ над собою, чтобы таковую в себе отделенность производить мог. Возьмите все примеры древние и новейшие, в коих мысленность столь является блестяща и пренебрежена телесность; вспомните Курция, во хлябь разверстую низвергающегося; вспомните Опдама, Сакена, с кораблями своими возлетающих; приведите на память многочисленные примеры отторгнувшихся жизни и возлюбивших смерть; соберите все примеры отъявших у себя жизнь из единого оныя пресыщения, примеры, в Англии столь частые; болезнь сплин почитается тому причиною. Но что бы то ни было, везде явна власть души над телом. И поистине, нужно великое, так сказать, сосреждение себя самого, чтобы решиться отъять у себя жизнь, не имея иногда причины оную возненавидеть. Ужели скажут, что и тут действует единая телесность? Как может сгущение соков или другая какая-либо погрешность в жизненном строительстве произвести решимость к самоубийству, того, думаю, никто не понимает. Но когда душа вещает телу: ты узы мои! ты моя темница! ты мое терзание! я действовать хощу, ты мне воспящаешь! да рушится союз наш, прости во-веки! то сколько бы жало смерти болезненно ни было, притуплено единою мыслию, сладостнее, увеселительнее становится паче всех утех земных. Если покажется кому-либо, что лишить себя жизни не столь много требуется твердости духа, как кажется, ибо прехождение сие есть мгновенно, миг един, – то сомневающимся еще во власти души приведем в пример тех, которые не токмо смерть пренебрегли и равнодушно на нее взирали, но толико мысленностию отделялися от тела, что всякое мучение для них было легко и терзание нечувствительно. Воспомяните Амвросия, умирающего под повторяемыми ударами разъяренной и суеверием подстрекаемой московской черни. Господи! отпусти им! – был глагол праведного: не ведают бо, что творят! – Воспомните Корнелия де Вита, поющего Горациеву песнь среди бунтующей амстердамской черни, оранианскими общниками прельщенной. Примеры мучеников, примеры диких, смеющихся среди терзаний, вам известны; и если не власть души тут явна, то где ж она быть может? А если и сие не убедительно еще, то кто не знает, что Руссо многие из своих бессмертных сочинений написал среди болезни непрестанной. Мендельсон, страдавший от несказанныя слабости нервов многие лета, мог терпением, напряжением мысли еще в старости своей вознестись паки на высоту своея юности. Гарве чрез долгое время не мог ни читать, ни писать, даже мысление его было ему тягостно, превозмог оное и написал потом изящные примечания свои на Цицерона; но се его слова: благословенна буди, вещает он, – и самая немощь болезнующего тела, толико часто меня научавшая, сколь дух над телом возмогает! Верьте, то ведаю от опыта моего, что напряжение духовныя силы может подкрепить расслабленное тело и до известныя степени дать ему жизнь новую. Также ведаю, когда душа покоится, то и волнующаяся кровь тихое приемлет обращение, и востревоженные соки жизни смиряются; самая болезнь, если она не превышает меры, бежит от продолжающегося отпорствующия ей души терпения. Я своего примера дать по толиких не дерзаю; но то истинно, когда мысль, нами уловленная, мысль, всю душу исполнившая, всю ее объемлющая, отторгает, так сказать, мысленность от телесности, тогда, забывая все чувствуемое, все зримое, забывая сам себя, человек несется в страну мысленную; время и пространство исчезают пред ним; он сокрушает все пределы, и занесшему ногу в вечность вселенная уже тесна.
Конец третией книги.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Вот, мои возлюбленные, все, что вероятным образом в защищение бессмертия души сказать можно. Доводы наши, как то вы видели, были троякие: первые почерпнуты были из существа вещей и единственно метафизические. Они нам непрерывным последствием посылок, одной из другой рождающихся, показали, что существо, в нас мыслящее, есть простое и несложное, а потому неразрушимое, следовательно, бессмертное, и что оно не может быть действие сложения нашего тела, сколь искусственно оно ни есть; вторые, основываяся на явственной восходящей постепенности всех известных нам существ, но возглавия сея постепенности, сея лествицы, в творении зримой, явили нам человека совершеннее всех земных сложений и организаций; в нем явны виделися нам все силы естественные, теснящиеся воедино, но видели в нем силу, от всех сил естественных отличную. Из того вероятным образом заключали, что человек по разрушении тела своего не может ничтожествовать, ибо если невозможно и само в себе противуречущее, что какая-либо сила в природе исчезала, то мысленность его, будучи всех сил естественных превосходнее и совершеннее, исчезнуть не может. Третьего рода доводы, заимствованные из чувственности нашей, из нас самих извлеченные, показали нам, что мысленная в нас сила от чувственности отлична, что она хотя все свои понятия от чувств получит, но возмогает творить новые, сложные, отвлеченные; что она властвует над понятиями нашими, воззывая их на действительность или устремляяся к единой; что в отвлечении случайном от тела мысленность не забывает творительную свою силу, как то бывает во сне или в некоторых болезнях; что сочетание наших идей с детства, что речь наша, а, паче всего, что явственное наше о нас самих познание суть убедительные доказательства, что мысленность наша не есть явление нашея телесности, ни действие нашего сложения. Наконец, показали мы, дабы отразить зыблющееся хотя, но казистое доказательство о всевластвовании тела нашего над душею, показали мы, повторю, что власть души над телом оную гораздо превышает; и для сего привели примеры из опытов ежедневных, утвердив неоспоримо, что вина и корень всех движений телесных есть мысленность; ибо в ней есть источник движения, а потому не можно ли сказать, что в ней есть и источник жизни; привели мы примеры, колико человек мысленностию своею властвующ над своими желаниями и страстями, что она возмогает дать телу болезнь и здравие, и присовокупим, и самую смерть; что напряжение мысленности отвлекает ее от телесности и делает человека способным на преодоление трудов, болезней и всего, под чем тело изнемогает без содействия души. Утвердив таким образом души неразрушимость, дерзнем подъяти на самую малейшую дробь тяжелую завесу будущего; постараемся предузнать, предчувствовать хотя, что можем быть за пределами жизни. Пускай рассуждение наше воображению будет смежно, но поспешим уловить его, потечем ему во след в радовании; мечта ли то будет, или истинность; соблизиться с вами когда-либо мне есть рай. Лети, душа, жаждущая видети друзей моих, лети во сретение и самому сновидению; в нем блаженство твое, в нем жизнь.
Три суть возможности человеческого бытия по смерти: или я буду существо таковое же, какое я есмь, то есть, что душа моя по отделении ее от тела паки прейдет и оживит тело другое; или же состояние души моея по отделении ее от тела будет хуже, то есть что она прейдет и оживит нижнего рода существо, например, зверя, птицу, насекомое или растение; или душа моя, отделенная смертию от тела, прейдет в состояние лучшее, совершеннейшее. Одно из сих трех быть долженствует, ибо хотя и суть вообразимые возможности иного бытия (чего не настроит воображение!), но на поверку всегда выходить будет или то же, или хуже, или лучше, четвертого вообразить не можно; но одному из трех быть должно, буде удостоверилися, что сила мыслящая в нас и чувствующая, что душа не исчезнет. Все сии возможности имели и имеют последователей; все подкрепляемы доводами. Рассмотрим основательность и вероятность оных и прилепимся к той, где вероятность родить может если не очевидность, то хотя убеждение. Блаженны, если вступим в путь истинный; сожаления будем достойны, но не наказания, если заблудим; ибо мы во след течем истине, мы ищем ее со рвением и нелицемерно.
Для удостоверения, что человек или кто-либо от человеков бывал уже человек, но под образом другим, или же что кто-либо из человеков бывал зверем или чем другим, но не человеком, нужно, кажется, ясное о том воспоминовение; нужно, чтобы оное часто было повторяемо, чтобы было, так сказать, ощутительно; ибо пример единственный не может быть доводом или, лучше сказать, свидетельство того или другого доказательством не почтено, да хотя бы сто таковых было свидетельств; для того, что могут быть причины таковому свидетельству, основанные на предубеждениях пли выгодах.
Хотя мнения сии не заслуживают почти опровержения, но взглянем на них любопытства ради и возвесим на весах беспристрастия. Древние гимнософисты и бракманы и нынешние брамины говорят, что человеческая душа в награждение за добрые дела, на земле соделанные, по отделении ее от тела смертию, преселяется в овцу, корову или слона белого; в возмездие же за дела злые преселяется в свинью, тигра или другого зверя. Древние египтяне также думали, что души их преходили в животных и растения и для того столь тщательно избегали убиения животных, дабы не убить отца своего или мать или не съесть их в тюре.
Сию гипотезу можно наравне поставить со всеми другими вымышлениями для награждения добрых дел и для наказания худых. Тартар и поля Елисейские и Гурии все одного суть свойства, бредни. Древние кельты чаяли в раю пить пиво из черепов своих неприятелей, Спроси русского простолюдина: каков будет ад? – Язык немеет, – скажет он в ответ: будем сидеть в кипячей в котле смоле. Все таковые воображения суть одного рода; разница только та, что одна другой нелепее. Случалося вам видеть картину страшного суда, не Михаила Анжеля, но продаваемую в Москве на Спасском мосту? Посмотрите на нее и в заключении своем не ошибетеся; и смело распространяйте оное на все изобретения, представляющие состояние души хуже нынешнего, хуже нежели в сопряжении с телом.
Что иные люди бывали люди же прежде сего, тому находят будто правдоподобие имеющие доводы. Великие мужи, говорят они, суть всегда редки; нужны целые столетия, да родится великий муж. Но то примечания достойно, что великий муж никогда не бывает один. Всегда являются многие вдруг, как будто воззванные паки от мрака к бытию, как будто от сна восстают пробужденные, да воскреснут во множестве.
Если бы произведение великого мужа для природы было дело обыкновенное, то бы равно было для нее, да произведет его, когда бы то ни случилося, и тут и там, одного, двух. Но шествие ее не так бывает. Великий муж один не родится, но если обрели одного, должны быть уверены, что имеет многих сопутников. И кажется, иначе тому быть нельзя; они всегда родятся на возобновление ослабевающих пружин нравственного мира; родятся на пробуждение разума, на оживление добродетели. Подобно, как то уверяют, что землетрясение есть нужное действие естественного строительства на возобновление усыпляющихся сил природы, так и великие люди, яко могущественные рычаги нравственности, простирая свою деятельность во все концы оныя, приводят ее во благое сотрясение, да пробудятся уснувшие души качества и силы ее да воскреснут. Если же еще помыслим, что не прилежание, не старание, не воспитание делают великого мужа, но он бывает таков от природы врожденным некиим чувствованием или высшим будто вдохновением, то не подумал ли помыслить, что почти невозможно единого жития течения на произведение великого мужа, но нужны многие; ибо известно всем, сколь мешкотно, сколь тихо бывает шествие наше в учении нашем, и распространение знаний не одним делается днем. Итак, можно вероятно заключить, что великий муж не есть новое произведение природы, но паки бытие, возрождение прежде бывшего, прежняя мысленность, в новые органы облеченная. Даже история сохранила примеры о воспоминавших о прежнем своем бытии. Пифагор помнил то ясно, Архий, Аполлоний Тианейский; и если б мнение таковое не было нашему веку посмеялищем, то можно подумать, что бы многие о таковом прежнего их бытия воспоминовении дали бы знать свету, но паче сего можно сослаться на каждого собственное чувствование, если только кто захочет быть чистосердечен. Не имели ли мы все или многие из нас напоминовения о прежнем состоянии, которое не знаем где вклеить в течение жизни нашей? В начальные дни жития нашего случалося бывать на местах, видать людей, о коих поистине сказать бы могли, что они уже нам известны, хотя удостоверены, что их не знаем; откуда таковые напоминовения? Не из прежнего ли бытия, не прежния ли жизни? Не для того ли они бывают иногда столь же сладостны, что уже были чувствуемы? Если всякий о сем воспоминать не может, то для того, что прилепленный к телесности чрез меру, не может от нее отторгнуться. Но те, кои упражняются в смиренномудрии и мысленности, тем таковое напоминовение легко быть может; чему и дали примеры Пифагор, Аполлоний и другие. Такими-то доводами, любезные мои, стараются дать вид правдоподобия нелепости, и смехотворному дают важность.
Колеблюся, нужно ли опровержение на таковые надутые доказательства; ибо известно, что нужно Пифагору было о себе сказать, что он был прежде Евфорбий, для того, что он утверждал преселение душ. Можно было и Аполлонию говорить то же; ибо если мог делать чудеса, всеми зримые, то верили ему, что он облечен уже в новый образ. Но ныне успехи рассудка мыслить заставляют, что всякое чудо есть осмеяние всевышнего могущества, и что всякий чудодеятель есть богохульник. Вот для чего Шведенборг почитается вралем, а Сен-Жермень, утверждавший бессмертность в теле своем, есть обманщик. Какое пустое доказательство, что для произведения великого мужа прерождение нужно, да и в чем состоит таковая прерождения необходимость! Тот, кто может произвесть великого мужа, может его произвесть в один раз, равно как и в два. История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований; но на произведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других по-ложениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции, Александр был бы, может быть, Картуш. Кромвель, дошедши до протекторства, явил великие дарования политические, как-то: на войне великие качества военного человека, но, заключенный в тесную округу монашеския жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа. Фридрик II не на престоле остался бы в толпе посредственных стихосплетчиков, и, может быть, ничего более.
Что многие великие мужи родятся вдруг, то естественно есть и быть так долженствует. Изъятия тому есть, но редкие. Редко возмогает тот или другой вознестися превыше своего времени, превыше окружностей своих. Уготовлено да будет место на развержение; великие души влекутся издалека, и да явится Нютон, надлежало, да предшествует Кеплер. Естественно, говорю, чтобы великие мужи являлися вдруг, а не поодиночке. Малейшая искра, падшая на горячее вещество, произведет пожар велий; сила электрическая протекает везде непрерывно и мгновенно, где найдет только вожатого. Таково же есть свойство разума человеческого. Едва един возмог, осмелился, дерзнул изъятися из толпы, как вся окрестность согревается его огнем и, яко железные пылинки, летят прилепитися к мощному магниту. Но нужны обстоятельства, нужно их поборствие, а без того Иоган Гус издыхает во пламени, Галилей влечется в темницу, друг ваш в Илимск заточается. Но время, уготовление, отъемлет все препоны. Лутер стал преобразователь, Декарт преобразователь, и яко вследствие законов движения, удар, данной единому шару, сообщается всем, на пути его стоящим, в едином ли то направлении или раздельно, так и электр души, возродяся единожды, изливается во все окрестности и стремится, подобно жидкостям, к равновесию (niveau) и уравненности.
Сколь тоще, сколь пусто доказательство, взятое из напоминовения, когда виды, новые предметы, кажется, будто видим виденные! столь верно, что сие напоминовение происходит от виденных, но подобных, хотя не самых тех, сколь верно, что все наши понятия происходят от чувств наших. Сочетание мыслей на яву имеет то же шествие, как и во сне; разность только та, что рассудок остановляет уродливое сочетание; но если вдашься воображению своему, то все чудесности небывалого Элдорады будут скоро действительны. Та же сила, которая напоминает при воззрении на новые предметы, будто они уже суть виденные, сочетая воедино виденного по частям, та же сила могла произвести Армиду, солнышкина рыцаря, и в Потерянный Рай вместить все изящности и все нелепости. Кто на яву ссылается на воображение, находится в опасности, что скоро забредит.
Но если предыдущие две возможности о посмертном нашем бытии суть произведения детства, а может быть, и дряхлости рассуждения человеческого, – что столь же, кажется, нелепо думать, что я буду по кончине моей слон белый, как новый Чингис, Европы завоеватель. – Возможность третия, то есть, что состояние наше посмертное удобриться долженствует, во всем нами прежде сказанном многие имела доводы, и, дабы ее утвердить паче и паче, войдем еще в некоторые подробности. Может быть, я заблуждаю, но блуждение сие меня утешает, подая надежду соединиться с вами: подобно, как будто привлекательное какое повествование, в истинности никакой основательности не имеющее, но живностию своих изображений, блеском картин и сходствием своих начертаний удаляя, отгоняя даже тень печального, влечет воображение, а за ним и сердце в царство хотя мечтаний, но в царство веселий и утех.
Мы видели и для нас по крайней мере доказанным почитаем, что в природе существует явная постепенность, что, восходя от единого существа к другому, мы находим, что одно другого совершеннее или, сказати точнее, одно другого искусственнее в своем сложении; что в сем веществ порядке человек превышает всех других равно искусственнейшим своим сложением, совершеннейшею своею организациею, в которой толико явственно соединены многие силы воедино, а паче всего умственною своею способностию; тщательное наблюдение человеческого воспитания показывает нам, сколь способности в нем угобжаются, ширятся, совершенствуют; история учит, колико народы могут в общем разуме своем совершенствовать.
Природа, люди и вещи суть воспитатели человека; климат, местное положение, правление, обстоятельства суть воспитатели народов. Но начальный способствователь усовершенствования рода человеческого есть речь. Я того разыскивать не намерен, речь наша есть ли что-либо нам данное или самими нами изобретенная. Мне кажется, все равно сказать, что всеотец научил нас говорить каким-либо посредством, или, дав нам органы речи, он дал и способность говорить. Но, кажется, нелишнее будет рассмотреть, каким образом, поколику речь к совершенствованию нашему способствует: ибо из того и явствовать будет, что водитель речи, мысленность, возлагать будет орудие, речи лишенная.
Ничто для нас столь обыкновенно, ничто столь просто кажется, как речь наша; но в самом существе ничто столь удивительно есть, столь чудесно, как наша речь. Правда, что радость, печаль, терзание имеют изъявляющие их звуки; но подражание оным было руководителем к изобретению музыки, а не речи; если мы помыслим, что звук, то есть движение воздуха, и звук произвольный, изображает и то, что глаз видит, и то, что язык вкушает, и обоняет нос, и что слышит ухо, и все осязания тела, и все наши чувствования, страсти и мысли; что звук сей не токмо может изразить все сказанное, всякую мысль, но что звук, сам в себе ничего не значущий, может возбуждать мысли и мысленности представить картину всего чувствуемого, – то в другом порядке вещей сие совсем показалося бы нелепым, невозможным: ибо рассмотри прилежнее служение речи. Время, пространство, твердость, образ, цвет, все качества тел, движение, жизнь, все деяния, словом: все... – и ты, о, всещедрый дарователь, и ты, о, всесильный, не изъемлем... – все преобразуем в малое движение воздуха, и аки некиим волхвованием звук поставлен на место всего сущего, всего возможного, и весь мир заключен в малой частице воздуха, на устах наших зыблющегося. О вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно: ибо чудесно есть, кто воззвал род человеческий к общежитию из лесов и дебрей, в них бы скиталися, аки звери дубровни и не бы были человеки? Кто устроил их союз? Кто дал им правление, законы? Кто научил гнушаться порока, и добродетель сотворил любезную? Речь, слово; без нее онемелая наша чувствительность, мысленность остановившаяся пребыли бы недействующи, полумертвы, как семя, как зерно, содержащее в себе древо величайшее, которое и даст покоющемуся сень, и согреет охладевшего, и пищу даст прохладную утомленному, и покровом будет от зною и непогоды, и пренесет по валам морским жаждущего богатства или науки до концов вселенныя, но которое без земли, без влажности мертвеет, ничтожествует. Но едва всесильный речь привитал к языку нашему, едва человек изрек слово единое и образ вещи превратил в звук, звук сделал мыслию, или мысль преобразил в чертоносное лепетание, – как будто окрест вращающегося среди густейшия мглы ниспадает мрак и темнота, очи его зрят ясность, уши слышат благогласие, чувственность вся дрожит, мысль действует, и се уже может он постигать, что истинно, что ложно; дотоле же чужд был и того и другого. Се слабое изображение чудес, речию произведенных. Мне кажутся аллегории тех народов весьма глубокомысленными, кои представляют первую причину всяческого бытия произведшее прежде всего слово, которое, одаренное всесилием всевышнего, разделило стихии и мир устроило. Если оно в человеке столь чудесно, столь чудодеятельно, то что возможет речь предвечного? Какой ее орган, какое знамение, кто может то ведать?
Но сия божественность, нам присвоенная, сия степень к совершенству, сей толико блестящий дар всеотца, речь наша, столь сама в себе малосущественна, столь зыблющаяся, столь летуча, что несовершеннее средства к нашему устроению, что бреннее союза между людьми почти себе нельзя представить. Конечно, и естественность наша здесь на земли толико несовершенна, что лучшее средство ее бы превышало, тяготило, словом, выше бы было человечества; ибо рассуди: речь изражает токмо имена, а не вещи, а потому человеческий разум вещей не познает, но имеет о них токмо знамения, которые начертавает словами. Итак, вся человеческая наука не что иное есть, как изображение знамений вещей, есть роспись слов; да иначе и быть неможно. Внутреннее существо вещей нам неизвестно; что есть сила сама в себе, не знаем, как действием следует из причины, не знаем, да и не имеем чувств на постижение всего того. О, человек! когда, возгордившись паче меры, ты возлетаешь в чувствовании твоем, помысли, что знание твое, что наука твоя есть плод твоея речи, или, паче, что она есть собрание различных звуков, помысли, и усмирися.
Вот, возлюбленные мои, вот на чем основаны человеческие познания. Мысли наши суть токмо знамения вещей, изражаемые произвольными звуками; следовательно, нет существенного сопряжения или союза между мыслию и словом; ибо все равно было назвать дурака дураком или ва-шим; в сем ни малейшего сомнения не может быть. Сколь скоро два языка кому известны, то сие явно. И се обильный источник наших заблуждений: ибо поелику во всех языках каждая вещь имеет уже название, и все несложные мысли свои знамения, то когда возродится мысль новая, то27 дают ей знамение, сложенное из прежних. Если ты разумеешь под знамением то, что я, то мы друг друга разумеем; если же ты понимаешь иначе, то и выходит разгласие, вздор. Равно, как бы один говорил по-еврейски, а другой по-русски. Таковы-то однако же суть большею частию все мнения философические, все исповедания. Один сказал: да, – другой разумел: нет, – а третий и то и другое: от чего случается, что от первого изрекшего знамение вещи оно хотя преходит в том же звуке заключенное чрез многие столетия, но мысль, с ним сопряженная, различествует от первой, как день от нощи. Таковы суть и были наипаче мнения человеческие о высшей силе. Люди назвали ее богом, не имея о ней ясного понятия. Вот как разум человеческий бродит, ищет истину, но вся мудрость его, все глубокомыслие заключены в утлом звуке, из гортани его исходимом и на устах его умираемом.
Не место здесь говорить о письме, которое не что иное есть, как произвольно начертанные знаки, кои означают звук, нами произносимый, слово. Но да позволено нам будет следующее токмо рассуждение: поелику звук, изражающий знамение вещи, есть произвольный, то на место сего звучного изражения, слуху нашему внятного, поставь изражение произвольное, подлежащее другому чувству, – то будешь иметь речь, не гласом произнесенную, но зримую, но вкушаемую, но обоняемую, но осязаемую. И се понимать можем, как изобретены письмена, которые суть истинная речь для органа зрения. Примеры лишенных некоторых чувств доказывают ясно, что речь, или произвольное изражение знамения вещей, может вместо звучных знаков вмещаться в знаки, другим чувствам подлежащие. Глухие, а потому и немые изъясняются знаками и мысли свои заключают в знаках, подлежащих зрению. Из сего понятна возможность изучить их разуметь речь писанную, что аббат де л'Епе произвел в действо с удивительным остроумием, а может быть, взирая, каким образом немые изъясняют свои мысли, и видя, что они на место звучных знаков поставляют знаки зримые, изобретатель письмен внял, что им подражать можно, и начертал азбуку. А хотя он, по изречению одного славного немецкого сочинителя, действовал между человеками, яко бог, но, заключая летущий ум в букву, он был не первый, который изобрел речь зримую. Живописец прежде его беседовал уже с нашими взорами; начертание образов зримого, картина была первое зримое изражение, речь звучную заменяемое; живопись родила иероглифы, а сии гораздо уже позже – буквы.
Если бы другие наши чувства столь же удобны были на понимание речи, как ухо и глаз, то бы, конечно, можно было сделать азбуку обоняемую, вкушаемую или осязаемую. Хотя и видали примеры, что слепые могли различать цветы посредством осязания и, может быть, возможно было двух слепо- и немо-рожденных изучить сообщать друг другу свои мысли, но речь обоняемая, речь вкушаемая и даже речь осязаемая не могут быть толико совершенны, как речь зримая, а паче того речь звучная: ибо сия едина в произношении своем есть разновиднейшая и соответствующая истинному органу слова. Но едва человек мог соединить речь звучную с речью зримою, то потек на изобретения, дерзнул на возможность и успел. Итак, сколь ни бренна, сколь ни зыбка есть речь наша, яко средство совершенствования, однако к оному была она одно из сильнейших. Подражение, речь, рассудок были руководители его к изобретению и расширению наук и художеств. Да и в самом диком состоянии человека, в первенственном его состоянии, в состоянии естественном сии руководители его не оставляют. Сила мысленности его столь же могущественна, как живущего в просвещеннейших государствах, ибо, что язык одного народа искусственнее, изглаженнее другого, что мысленная округа его расширеннее, пространнее, обильнее, из того не следует, что все особенники народа суть разумнее, в мысленности могущественнее наименее совершеннейших народов. Изобретал мысль един, другие же, яко пленники, к колеснице торжествователя сего пригвожденные, бредут ему во след. Они говорят говоренное, мыслят в мысли другого, и нередко не лучше суть младенца, лепечущего во след своея няньки.
Итак, в каком бы то состоянии ни было, человек удобряет свою чувственность, острит силы мысленные, укрепляет понятие, рассудок, ум, воображение и память. Он приобретает несчисленное количество понятий, и из сравнения его рождаются понятия о красоте, порядке, соразмерности, совершенстве. Побуждение его к сожитию ввело его в общественное житие, и се разверзаются в нем новые совершенства. Права и обязанности, в общежитии им приобретенные, возводят его на степень нравственности; се уже рождаются в нем понятия о честности, правосудии, чести, славе; уже из побуждений к сожитию рождается любовь к отечеству, к человечеству вообще, а за ними следует тысящи добродетелей или паче сия из многих рождается; и сожалительность его претворилась в великодушие, щедроту, милосердие. Таким образом достигает он до вершины своего чувствования, до совершенства всех своих качеств, до высшего понятия о добродетели.
Хотя сказанное не на всех распространить можно, но различие между людьми состоит токмо в одной степени, а не в существенности. Да и тот, кто устраняется назначенного пути, устраняется, стремяся к совершенствованию, к блаженству: ибо все, что живет и мыслит, все стремится к расширению своих качеств, к совершенствованию; и сия есть мета мысленного существа. Хотите ли в том быть убежденны? Воззрите на то, что он на земли исполняет. На свет исходит, не имея никакой способности, ни умения, и является паче всех животных беззащитнее, беспомощнее, немощнее; и то природное стремление, которое другим животным столь явно руководствует, в человеке не существует. Но воззри на него, едва ощутил недостатки свои, едва возопил: немоществую, – уже вся природа стремится ему на вспомоществование. Чувства его изощряются, рассудок укрепляется; недостатки рождают склонности, речь ведет его беседовати с богом, и рожденный слабее, немощнее, тленнее, словом, хуже всех других тварей, вследствие способности совершенствования человек возвышается выше всех существ на земли, и явен становится ее властитель.
Итак, стремление к совершенствованию, приращение в совершенствовании кажется быть метою мысленного существа, и в сем заключается его блаженство; но сему стремлению к совершенствованию, сколь оно ни ограниченно есть, предела и конца означить невозможно: ибо чем выше человек восходит в познаниях, тем пространнейшие открываются ему виды. Подстрекаемый всегдашним стремлением, мета его есть шествие беспрестанное, почти бесконечно, и поелику мысленности существенно, то и сама вечность на достижения сея меты недостаточна. Оттуда все старания наши, все наши стремления беспредельны. Желание наше объемлет бесконечность, и вечностию его разве измерить можно, а не временем. Склонности и страсти удовлетворений не знают, и чем более угобжаются, тем сильнее возрастают. Все благородные склонности и все скаредности едину носят на себе печать. Рвение к науке ненасытимо, возродяся единожды; любочестие всеалчно, желало всю землю зреть своим подножием; и даже мерзкое сребролюбие жажде своей к имению не знает ни конца, ни предела. Всякую мысль, всякую мечту мы тщимся поставить мер превыше; где мы обретаем предел и ограду, там будто чувствуем плен и неволю, и мысль наша летит за пределы вселенныя, за пределы пространства, в царство неиспытанного. Даже телесность наша тщится во след мысли и жаждет беспредельного: ибо едва коснется пресыщения, то и наивеличайшее услаждение мерзит.
Поступим теперь к другому. Мы в предыдущем изъяснили, что понятия о красоте, благогласии, соразмерности, даже добродетели рождаются из сравнения: следовательно, не суть понятия сами по себе; мы видели, что сравнение есть деяние вещества мыслящего: следовательно, дабы что-либо поистине могло назваться прекрасным, изящным, нужно деяние умственное, да произойдет сравнение. А как без умственности сравнение быть не может, то не должны ли заключать, что бы и вся красота мира ничтожествовала, не бы были вещества мыслящие, разумные: следовательно, они в начертании сложения мира суть необходимы. Как же можно вообразить себе их уничтожение, а особливо тогда, когда деятельною мысленностию они усовершенствовали, следовательно, удобнее еще стали постигать все изящное, все превосходное, всю красоту.
Почерпая из сего новые еще доказательства о бессмертии души нашея, мы также научиться из них можем, что цель, что мета человечества есть совершенствование и блаженство, которое есть следствие добродетели, единыя от совершенств. И неужели блаженство наше есть мечта, обольщение? Ужели всесильный, всеблагий отец хотел сделать из нас игралище куколок? – Таковыми бы мы почтены быть должны, если бы блаженство наше с жизнию нашею скончавалося; ибо недостатки телесности нашея претят, да может быть совершенно. Теперь время уже, возлюбленные мои, поспешать к концу нашего предприятия и, удостоверившись всякими мерами, что душа наша бессмертна, что жить будет и не умрет, то есть не разрушится, – теперь надлежит сказать, что с душею останется, когда она от тела будет отделенна. Многие суть случаи в жизни нашей, в которых нам показывается сходственность с первою степению кончины нашея. Как скоро жизнь прервется, то последует бесчувственность, забвение самого себя. Подобные сему состояния суть: обморок, исступление, сон и множество других состояний; в таковых положениях человек забывает сам себя, теряет о себе сведение и лишается на время своея чувственности; итак, можно бы заключить, что подобно, как во сне, отъемлющем внешную нашу чувственность, остается в нас чувственность внутренняя, то есть мысленность, – подобно сему, говорю, и по смерти будем чувственности внешния лишены, но сохраним мысленность. Но пребудет ли она такова в нас по смерти, как в состоянии сна? При первом взгляде сие таковым и покажется, и могло бы в нас произвести уверение, но оно противоречит нашему существу, противоречит мете нашего бытия, следственно, противоречит намерению творца в его творении. Постараемся отразить сие казистое доказательство и возвести мысленность нашу, по отлучении ее от тела, в то достоинство, на которое она кажется быть определенна.
Из предыдущего видели мы, что мысленность человеку сосущественна, что она его составляет особенность, что человек и может по ней назваться человек, а без нее равнялся бы скотам. Мы видели также, что совершенствование ее есть свойство неотделимое; а потому и мета наша на земли относится к устроению нашему, из чего следствие бывает блаженство. Вследствие сих предпосылок человек во время жития своего дает всем силам своим всю возможную расширенность. Способность мыслить, с коею рождается, бывает разум, чувства наши изощряются, научаются, искусствуют; склонности наши производят деятельность необъятную и, яко понятия, чувственностию принятые, претворяются в мысли, тако и склонности, в душе преобразовавшись и Получив всю свою расширенность, становятся добродетели или пороки. Побуждения наши, сосреждаяся, так сказать, в душе, яко в средоточии зажигательного зеркала, родив в нас волю, дают столь широкую, столь твердую подножность, что если бы она не в человеке пребыла, то казалася бы божественною. Мы видели потом, что печать беспредельности наложена всему, что человек предприемлет; в самых силах его видна бывает толика энергия, что предел им назначить было бы отважно. Хотите ли сему примеры: Скалигер Омира выучил наизусть в три недели и в четыре месяца всех греческих стихотворцев. Валлис извлекал в голове коренное число пятидесяти трех цыфирей. И таковые примеры отменныя энергии в силах умственных суть часты; незамеченны теряются, и для того не всяк о них знает. Из предшедших доказательств убедилися, что мысленность наша, что сила наша разумная, что душа наша разрушиться не может: ибо, не яко тело, несложенна, следовательно, не пропадет, не исчезнет, не уничтожится, пребудет, поживет во-веки. Итак, из всего сказанного не ясно ли следует: 1. Поелику мысленность наша или душа не разрушится, то пребудет жива и по разрушении тела. 2. Поелику существенность ее состоит в непрестанном совершенствовании, то по отделении от тела душа ее сохранит, ибо если бы сия существенная ей способность изменилася, то бы она в худшее прешла состояние, не была бы душа, что также противно намерению, в сотворении человека явствующему. 3. Поелику же состояние сна лишает нас ясного о самих нас познания, а потому не столь есть состояние совершенное, как состояние бдения, то смерть уподобится сну относительно человека разве в том только, что обновит силы его душевные, как-то сон обновляет телесные, а не в том, что лишит душу ясного о себе познания, в чем состоит преимущество человека пред другими животными. 4. Поелику в силах душевных является беспредельность и ограниченность ее происходит от ее телесности, то, отрешенная от нее, она в деятельности своей будет свободнее. И, наконец, 5. Поелику душа сохранит свою способность совершенствования, то паче и паче будет совершенствовать. А если бы захотел ты иметь сему совершенствованию меру, то помысли, каков человек родится и что он бывает в его возмужалости, помысли, что в совершенствовании не будет препинаем ни обстоятельствами, ни страстями, ни болезнями, ни всеми препонами, телесностию душе налагаемыми; помысли, сколь уже разум человеческий отстоит теперь от дикого, от грубого состояния человека, питающегося ловитвою; помысли и, начав от нынешнего совершенства, измеряй восхождение и знай, что не житием телесности то исполнять должно, но отрешая меру времени; помысли все сие и скажи: где есть предел совершенствования души? О, человек! не ясно ли ты есть сын божества, не его ли в тебе живет сила беспредельная!
Как можно думать, чтобы состояние человека посмертное было сну подобное, чтобы человек стал лишен чувствования, самопознания и жил бы, так сказать, в непрестанном мечтании? Когда здешнее состояние человека цель имеет совершенствование, когда в посмертное прейдем совершеннее, нежели рождены были, то как мыслить, чтобы будущее состояние было возвратно, ниже, хуже теперешнего, как то непрестанное состояние сну подобное. Если то истинно, что всякое настоящее состояние предопределяет состояние следующее (ибо сие без того не имело бы достаточныя причины к существованию), а наше состояние на земли есть состояние совершенствования, в чем состоит мета нашего здесь пребывания, то не следует ли из того, что состояние будущее человека, поелику определяемо совершенствованием, будет совершеннее? Следует, что противоречие бы было в мете нашего бытия, чтобы следующее состояние человека подобно было сну, забвению, когда теперешнее состояние, будущее определяющее, есть состояние совершенствования. Возьмем известное уподобление, на прохождении человека от одной жизни к другой приложенное; последуем хотя косвенно в сем употреблении умственному исполину, и да будет он нам опорою.
Лейбниц сохранение животного по смерти и прохождение человека уподобляет прерождению червяка в бабочку и сохранению будущего строения бабочки в настоящем червяке. Посмотрите, колико оно сходственно. Зри убо скаредного на чреве своем пресмыкающегося червяка. Алчба его единственное побуждение; прилепленный к листвиям, их пожирает и служит единой своей ненасытимости; но се уже его кончина: смертная немощь объемлет его, сжимается, корчится, и се уже лежит бездыханен. Но сила, внутрь его живущая, не дремлет. Животное спит, покоится во смерти. И се происходит его прерождение. Ноги его растут, все члены претворяются; и едва новое его рождение достигло своего совершенства, то в жизни паки является, или паче пробужденный. Но какое превращение: вместо червяка является бабочка, простирает блестящие всеми цветами лучей солнечных крылия, возносится и, гнушаяся прежния своея пищи, питается нежнейшею. Уже новое совсем имеет существо, другая его мета, другие побуждения. Червяк служил токмо своего чрева, а бабочка, вознесенна до общия меты животных, служит прерождению. Кто бы мог вообразить в червяке бабочку, что они суть единое животное, и что превращение его есть токмо другое время его жизни? О, умствователь! поставляй предел природе; она, смеяся бессилию твоему, в житие единое соцепляет многие миры.
Если худшее состояние человека по смерти противоречит его мете и его существенности, то паче противоречит оно намерению творца в его творении: ибо поелику мета его есть совершенствование, то состояние, оному возвратное, худшее, будучи оной противоречуще, противоречит и намерению творца потому, что в том и было его намерение, да совершенствуем.
Всемогущее существо в самом деле ни награждает, ни наказывает, но оно учредило порядок вещам непременный, от которого они удалиться не могут, разве изменя свою существенность.
Итак, добродетель имеет сама в себе возмездие, а пороки наказание. Что может быть сладостнее, как быть уверену, что пребыли всегда в стезе, нам назначенной? Что превышает удовольствие, как знать, что ничем мы сами себе упрекнуть не можем? Если бы вознялася легкая мгла, затмевающая зерцало совести добродетельного человека, напоминовение соделанного добра разгонит мгновенно. Напротив того, злые принужденны ежечасно упрекать себе свои злодеяния, терзаться, казниться среди благоденствия. – Почто искать нам рая, почто исходить нам во ад: один в сердце добродетельного, другой живет в душе злых. Как ни умствуй, другого себе вообразить не можно. Если же себе представим, что все человеки сходствуют в их силах и способностях, суть во всем одинаковы, и черта, одного от другого отделяющая, незрима, в различиях своих они восходят или нисходят непременною постепенностию, но все суть единого рода; следовательно, и определение их, мета их, цель должны быть одинаковы. Если кто из них, употребляя во зло данные ему способности, устраняется предопределения своего, то все следствия злых дел налягают на него. Едкая совесть грызет его сердце и не отступит от него, дондеже не истребит в нем все преступное, все злое. Яко врачебное некое зелие, совесть есть лекарство злых дел, и если в жизни она нас не исцеляет, то, конечно, по смерти. Излеченных совестию ужели всеотец исключит из своих объятий? Почто мы бываем толико жестокосерды? Преступник не брат ли наш? И кто может столь сам пред собою оправдаться и сказать: никогда во мне ниже мысль злая не возникала?
Если возможно, сцепляя многие истины, постигнуть, что совершенствование есть цель человека, не токмо цель его на земли, но и по смерти, то весьма трудно, дабы не сказать – невозможно, вообразить себе, каким образом продолжится совершенствование человека по смерти: ибо если на земли была в том ему пособием телесность и его органы, то как то может быть без оной? Чувства его дали ему понятие, а без них их бы он не имел. То два средства: или вновь понятия уже приобретать душа не будет, а действовать будет над прежними, или человек будет иметь новую организацию. Боннет старается доказать, что душа человеческая всегда будет сопряжена с телом, что, по смерти оставшися семени сопряженна, человек из оного сопряжения родится паки двусуществен. Основывает он сие рассуждение на том, что поелику человек, как всякая тварь, содержится в семени до зачатия своего, то как оное семя кажется быть душе сосущественно, то она с ним навеки пребудет сопряженна. Если сие предположение невероятно, но возможно, – ибо то истинно кажется, как то мы видели в начале сего слова, что семя зачатию было предсущественно. Но запутнение не совсем развязано: ибо семя, коему пред зачатием душа была союзна, зачатием и рощением разверзлося и произвело новые семена, коих развержение новые произвело существа; но прежнее семя, семя отчее, уже разверженное, должно пребыть паки семя, что есть противоречие; то надлежит предполагать, что семя развержения произведет самого себя вновь. Вот круг, и затруднение не решено. – Таковы суть следствия семенного любомудрия, как то его называют; но сколь ни слабо сие рассуждение, оно имеет казистую сторону и находило последователей. Мне кажется, что все таковые системы суть плод стихотворческого более воображения, нежели остроумного размышления. За таковое же изобретение выдаю и следующее предположение: приметно или паче явственно, что есть в природе вещество или сила, жизнь всему дающая. Чувствительность наша, электр и магнитная сила суть, может быть, ее токмо образования (modification), то не сие ли вещество, которое мы назвать не умеем, есть посредство, которым душа действует над телом? А поелику оно есть средство к действованию души, то не вероятно ли, что, отступая от телосмертия, душа иметь будет то же посредство для своего действования? Но дабы действовать, нужны кажутся ей быть органы; а поелику душа в сожитии своем с телом стала совершеннее, то и органы нужны ей совершеннейшие. И для чего сего вероятным не почитать, когда и самая сила творчая явна токмо посредством вещественности, посредством органов? Какое противоречие мыслить, что может быть в сем же мире и может быть на земли другая организация, но нами не ощущаемая, нам неведомая, да и по той только причине, что она чувствам нашим не подлежит? А если бы чувства наши были изощреннее и совершеннее, то бы и сия нам неведомая организация была бы известна. Что чувства наши или, лучше сказать, что чувственность может быть изощреннее, то доказывали примеры чувств, из соразмерности своей болезнию выведенные; дай глазу быть микроскопом или телескопом, какие новые миры ему откроются! И как сомневаться в возможности лучшей организации? Тот, кто мог дать человеку око на зрение красоты и соразмерности, ухо на слышание благогласия; тот, кто дал ему сердце на чувствование любви, дружбы; кто разум ему дал на постижение дателя; тот, кто огнь, воздух, землю и воду сплел воедино; тот, кто самую летучесть огня претворяет в твердость и свет вмещает в части составительные веществ, может, конечно, может произвести новые смешения; благость его к творению его не иссякнет, любовь к произвождению своему горячности своей не потеряет; и если единое его слово рождает чудесность, то оно и паки ее родить может. Или на что предполагать быть новому творению? Вся возможность прешла в действительном пред началом уже времен, и что будет, уже было в незыблемом порядке с того мгновения, как возблистало солнце и время отделилося от вечности.
Для чего предполагать невозможность быть другим организациям, опричь нами чувствуемых на самой земле, по той единственно причине, что они нам нечувствительны?
Сколько веществ, ускользающих от наших чувств, иные своею малостию, иные своею прозрачностию или другими свойствами, чувствам нашим неподлежащими, и если мы в малостях видим, что пресыщение одной вещи не исключает въемлемость другой. Вода, насыщенная обыкновенною солию, и не приемля ее более, приемлет и растворяет другую. Истолкуй сию возможность, и если бы не опыт то доказывал, ты бы оному не верил.
Не так далеко, кажется, отстоять должно будущему состоянию человека от нынешнего, как то иногда воображают его, не за тридевять земель оно, и не на тридесятом царстве.
Если должно верить сходственности аналогии (да не на ней ли основаны большая часть наших познаний и заключений?), если должно ей верить, то вероятно, что будущее положение человека или же его будущая организация проистекать будет из нашея нынешния, как-то сия проистекает из прежних организаций. Поелику к сложению человека нужны были стихии; поелику движение ему было необходимо; поелику все силы вещественности в нем действовали совокупно; поелику по смерти его и разрушении тела стихии, вышед из их союза, пребудут те же, что были до вступления в сложение человека, сохраняя все свои свойства; потолику и силы, действовавшие в нем, отрешась от тела, отойдут в свое начало и действовать будут в других сложениях ; поелику же неизвестно, что бывает с силою или стихиею чувствующею, мыслящею, то нельзя ли сказать, что она вступит в союз с другими стихиями по свойству, может быть, смежности, нам неизвестной, и новое произведет сложение? О, возлюбленные мои, я чувствую, что несуся в область догадок, и, увы, догадка не есть действительность.
Повторим все сказанное краткими словами: человек по смерти своей пребудет жив; тело его разрушится, но душа разрушиться не может: ибо несложная есть; цель его на земли есть совершенствование, то же пребудет целию и по смерти; а из того следует, как средство совершенствования его было его организациею, то должно заключать, что он иметь будет другую, совершеннейшую и усовершенствованному его состоянию соразмерную.
Возвратный путь для него невозможен, и состояние его по смерти не может быть хуже настоящего; и для того вероятно или правдоподобно, что он сохранит свои мысли приобретенные, свои склонности, поколику они от телесности отделены быть могут; в новой своей организации он заблуждения свои исправит, склонности устремит к истине; поелику сохранит мысли, коих расширенность речь его имела началом, то будет одарен речию: ибо речь, яко составление произвольных знаков, знамение вещей означающее, и может внятна быть всякому чувству, то какая бы организация будущая ни была, если чувствительность будет сопричастна, то будет глаголом одаренна.
Положим конец нашим заключениям, да не зримся ищущими единственно мечтаний и чуждаемся истины. Но как бы то ни было, о, человек, хотя ты есть существо сложное или однородное, мысленность твоя с телом разрушиться не определена. Блаженство твое, совершенствование твое есть твоя цель. Одаренный разными качествами, употребляй их цели твоей соразмерно, но берегись, да не употребишь их во зло. Казнь живет сосмежна злоупотреблению. Ты в себе заключаешь блаженство твое и злополучие. Шествуй во стезе, природою начертанной, и верь: если поживешь за предел дней твоих, и разрушение мысленности не будет твой жребий, верь, что состояние твое будущее соразмерно будет твоему житию, ибо тот, кто сотворил тебя, тот существу твоему дал закон на последование, коего устраниться или нарушить невозможно; зло, тобою соделанное, будет зло для тебя. Ты будущее твое определяешь настоящим; и верь, скажу паки, верь, вечность не есть мечта. –
1 Славный естествоиспытатель Линней привел в ясность различие полов в растениях и плододеяние их посредством цветочной пыли, без коей цвет в плод превратиться не может.
2 Славный Галлер доказал, что иные части чувственны, другие только раздражительны.
3 Не говоря о других, можно в пример привести известного живописца Рафаеля.
4 Не возможно ли уподобить душу металлу минерализованному? Когда огнь руду проникнет, металл отделяется и явится в своем блеске: так и огнь жизни, проникнув семя, являет душу.
5 Нельзя ли сказать: несть тождественности души в рожденном во состоянии и по смерти; ибо души есть сила, действующая органом, а орган разрушится. Душа, лишенная воспоминовения воплощенного ее состояния, будет особенна, будет высшее существо, потому что напоминовения лишение лишит ее всего, что нас терзает: она будет я. Итак, соединится ли она со своим началом или пребудет особенна, но будет высшее существо.
6 Человек во чреве образуется подобно растению: он кормится пуповиною, как растение корнем.
7 Peut-etre les affinities suivent les loix de la force magnetique ou electrique; ne pourrait on pas dire que 1'affinite est universelle par les intermediaires. S'il у a des affinites doubles, n'у peut il у avoir des triples etc. 6.
8 Легкое его еще не дышит, а большая грудная железа сосет; кажется, и у человека нет еще правыя сердечныя камеры, и вместо крови, белый сок протекает его жилы. Сердце потом образуется, кровь краснеет, и хотя легкого не касается, но обращение ее живее. Все в нем пульс; и как скоро выходит на свет, воздух и млеко составляют его пищу; самая боль и всякая потребность дают ему случай всосать теплоту тысячью стезями.
9 Что есть металлическая жила, что земля купоросная, селитреная, если не матки? что пары металлические, купоросный,и селитреный газ, если не мужеский сок?
10 Пример младенца и диких.
11 Он превратил климаты, в холодной полосе он зной ощущает; он подвержен многим болезням, но живет долее земных зверей. Детство, отрочество, юность долее в нем. Он долее всех учиться должен, ибо должен иметь более знания других.
12 Одному человеку не поставлено в нем меры.
13 Могли ли бы они петь благогласно, не чувствуя благогласия?
14 Уши зверей заостренные и все лежащие. Рассмотрение уха певчих птиц будет когда-либо сему ясным доказательством.
15 Аббе де Л 'епe.
16 Примечания достойно, что из видимых членов в человеке зубы совершаются после всех других.
17 См. Discours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes.
18 (В сем месте сочинитель начертал только предметы, о которых рассуждать был намерен; вот они. – О различии людей в их чувствованиях и страстях и о степени оных в каждом человеке. От чего зависят темпераменты? Откуда различия в представлениях божества? Что оно часто похоже на человека, то неудивительно: человек его изображает, и поелику он человек, за человека зреть не может. Различие нравов, правлений и проч.)
19 Говоря о духах, я разумею токмо одну, так называемую душу человеческую.
20 Лучи солнечные имеют два свойства: теплоту и свет. Но свет от теплоты доселе отличить можно было тем, что вещество света есть мгновенно, а теплота пребывающа. Поелику же флогистон есть основание цветов, то и луч солнечный его содержит в летучем состоянии.
21 Зарождение селитры ясно доказывает ее в воздухе присутствие.
22 Кто знает, что не от тяжести ли или легости происходит различие умов?
23 По отдалении солнца вся природа мертвеет. Не умирают животные, ибо в себе заключают больше огня, нежели растения.
24 Здесь противоречия нет против сказанного выше, где говорится, что отвлечение есть действие рассудка. Мы здесь говорим, где корень понятий отвлеченных.
25 Примеры чувств. Увеличь взоры микроскопом, увидишь на руках диры; и чистой воде суть чудовища живые.
26 Пантеон равен бы был Ивану Великому, если бы не было разумною вещества.
27 Доколе вещи не дано имя, доколе мысль не имеет знамения, то она разуму нашему чужда, и он над нею не трудится. Дабы усвоить разуму какое-либо познание, нужно прежде всего ее ознаменовать.