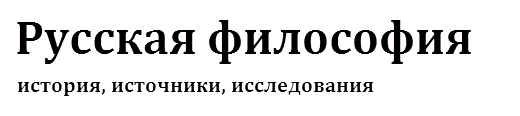Юрий Самарин. О мнениях "Современника"
Самарин Ю.Ф. Избранные произведения. М., 1996. С. 416-443.
Продолжаем выписки: «Но по какому закону он развивался? Христианство открыло в человеке и глубоко развило в нем внутренний, невидимый, духовный мир... Духовные силы человека, его стремления, надежды требования, упования, которые прежде были глубоко затаены и не могли высказываться, христианством были сильно возбуждены и стали порываться к полному, безусловному осуществлению. Когда внутренний, духовный мир получил такое господство над внешним, материальным миром, тогда и человеческая личность должна была получить великое, святое значение, которого прежде не имела... Так возникла впервые в христианстве мысль о бесконечном, безусловном достоинстве человекам человеческой личности. Человек—живой сосуд духовного мира и его святыни; если не в действительности, то в возможности, он представитель Бога на земле, возлюбленный сын Божий на земле... Из определяемого человек стал определяющим, из раба природы и обстоятельств — господином их. Христианское начало безусловного достоинства человека и личности, вместе с христианством, рано или поздно, должно было перейти в мир гражданский. Оттого признание этого достоинства, возможное нравственное и умственное развитие человека сделалось лозунгами всей новой истории, главными точками или центрами, около которых она вертится»...
Нет, этого недостаточно! Ваше определение не только не исчерпывает сущности христианства, даже не исчерпывает его участия как исторического агента в прошедших судьбах человечества. Из слов ваших выходит, что главное, если не единственное, историческое назначение его заключалось в том, чтобы личность, некогда подавленную природной, отрешить от нее и затем пустить на волю, с правом самопроизвольно, из себя самой, определять себя. Но это только отрицательная сторона христианства, та сторона, которою оно обращено к язычеству и юдаизму; следовательно, не все христианство. Вы забыли его положительную сторону; забыли, прежнее рабство оно заменяет не отвлеченною возможностью иного состояния, но действительными обязанностями, новым игом и благим бременем, которые налагаются на человека самым актом его освобождения.
«Из определяемого человек стал определяющим», — сказали вы; следовало бы дополнить: и вместе с тем, определенным. «Христианство внесло в историю идею о бесконечном, безусловном достоинстве человека, — говорите вы, — человека, отрекающегося от своей личности, прибавляем мы, — и подчиняющего себя безусловно целому. Это самоотречение каждого в пользу всех есть начало свободного, но вместе с тем безусловно обязательного союза людей между собою. Этот союз, эта община, освященная вечным присутствием Св. Духа, есть Церковь.
Все это очевидно и не ново; сторона христианства, автором упущенная из виду, так ярко обозначена в истории человечества, что ради ее христианство находило пощаду даже в глазах тех мыслителей, которые наиболее клеветали на него, навязывая ему всякого рода искажения и злоупотребления. Новейшие социальные школы хотят отрешить ее от догматики; они хотят невозможного. Но отчего же то, что поразило их, ускользнуло от автора? Чем объяснить односторонность его взгляда?
На это дают ответ следующие слова его: «Германские племена, передовые дружины нового мира, выступили первые. Их частые, вековые неприязненные столкновения с Римом, их беспрестанные войны и далекие переходы, какое-то внутреннее беспокойство и метание — признаки силы, ищущей пищи и выражения — рано развили в них глубокое чувство л и ч н о с т и... Оно лежит в основании их семейного и дружинного быта... Перешедши на почву, где совершалось развитие древнего мира, они почувствовали всю силу христианства и высшей цивилизации... Германец ревностно принимал новое учение, которое, высоким освящением личности, так много говорило его чувству, и в то же время вбирал в себя римские элементы, наследие древнего мира. Все это мало-помалу начало смягчать нравы германцев. Но и смешавшись с туземцами почвы, ими завоеванной, принявши христианство, устроивши себе многое из Римской жизни и быта, они сохранили глубокую печать своей национальности. Государства, ими основанные, — явление совершенно новое в истории. Они проникнуты л и ч н ы м началом, которое принесли с собою германцы. Всюду оно видно, везде оно на первом плане, главное определяющее. Правда, в новооснованных государствах оно не имеет того возвышенного, безусловного значения, которое придало ему христианство. Оно еще подавлено историческими элементами, бессознательно проникнуто эгоизмом и потому выражается в условных, резко обозначенных, часто суровых и жестких формах! Оно создает множество частных союзов в одном и том же государстве. Преследуя самые разные цели, но еще не сознавая их внутреннего, конечного, органического единства, эти союзы живут друг возле друга, разобщенные или в открытой борьбе. Над этим еще не установившимся, разрозненным и враждующим миром царит церковь, храня в себе высший идеал развития. Но мало-помалу, под разнообразными формами, по-видимому не имеющими между собою ничего общего или даже противоположными, воспитывается ч еловек.Из области религии мысль о безусловном его достоинстве постепенно переходит в мир гражданский и начинает в нем осуществляться. Тогда чисто исторические определения, в которых сначала сознавала себя личность, как излишние и ненужные, падают и разрушаются в различных государствах различно. Бесчисленные частные союзы заменяются в них одним общим союзом, которого цель — всестороннее развитие человека, воспитание и поддержание в нем нравственного достоинства. Эта цель еще недавно обозначилась. Достижение ее в будущем. Но мы видим уже начало. Совершение неминуемо... Русско-славянские племена представляют совершенно иное явление... Начало личности в них не существовало... Семейный и домашний быт не мог воспитать его... Для народов, призванных ко всемирно-историческому действованию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно... Этим определяется закон развития нашего внутреннего быта. Оно должно было состоять в постепенном образовании, появлении начала личности и след. в постепенном отрицании исключительно-кровного быта, в котором личность не могла существовать... Так, задача истории русско-славянского племени и германских племен была различна. Последним предстояло развить историческую личность, которую они принесли с собою, в личность человеческую; нам предстояло создать личность... После мы увидим, что и мы, и они должны были выйти и в самом деле вышли на одну дорогу».
Рассмотрим сперва беглый очерк западной истории, набросанный автором и долженствующий служить переходом к изложению быта древней России. Когда мы прочли его в первый раз, мы все ожидали дополнений, оговорок: до такой степени он показался нам односторонним. Но ничего подобного не нашлось в статье; напротив, та же мысль определялась резче и резче. Скажите, однако: неужели в самом деле германцы исчерпали все содержание христианства? Неужели они были единственными деятелями в истории Запада? Неужели все явления ее представляют только моменты развития одного начала — личности? Ведь это противно самым простым, элементарным понятиям, почерпанным из всей исторической литературы французской и немецкой. И этот взгляд, уничтожающий не менее половины западного мира, брошен вскользь, как будто даже не подлежащий спору. Для кого же все это писано?
Сколько нам известно, Гизо первый понял развитие всего западного мира как стройное целое. Он видел в нем встречу, борьбу и какое-то отрицательное примирение в равновесии трех начал: личности, выражаемой германским племенем, отвлеченного авторитета, перешедшего по наследству от древнего Рима, и христианства. Последнее начало, само по себе цельное, в Западной Европе распалось на два исторических явления, под теми же категориями авторитета и личности. Римский мир понял христианство под формою католицизма, германский мир — под формою протестантизма. Может быть, Гизо потому только не провел дуализма через западное христианство, что восточная половина Европы была ему малоизвестна. Германское начало, идея личности, создала Целый ряд однородных явлений: в сфере государства — различные виды искусственной ассоциации, коей теория изложена в «Contrat social» Руссо; в сфере религии — протестантизм; в сфере искусства — романтизм. В тех же сферах развились из римского начала совершенно противоположные явления: идея отвлеченной, верховной власти, формулированная Макиавелем, католицизм и классицизм. Мы не навязываем этого взгляда г. Кавели ну; но как же уверять нас, что римское начало не участвовало наравне с германским в образовании Западной Европы и что в одном последнем заключается зародыш будущего? Предчувствие этой будущности действительно пронеслось по всей Европе от края до края; но в нем заключается сильное возражение против теории автора. Так как вопросы только что заданы, а не разрешены, то оставляя в стороне положительные теории или, лучше' несбыточные мечтания, обратим внимание на отрицательную сторону, на вопросы, сомнения и требования, еще не созревшие. Вслушиваясь в них, нельзя не признать их внутреннего согласия. На разных тонах повторяется одна тема: скорбное признание несостоятельности человеческой личности и бессилия так называемого индивидуализма. Что значат эти упреки современному обществу в эгоизме и личной корысти? Они обратились теперь в общие места; но в искренности основного чувства нельзя сомневаться. Почему, вскоре после Июльской революции, охладели к политическим вопросам, и прежняя строптивость и недоверчивость к верховной власти перешла в потребность какого-то крепкого, самостоятельного начала, собирающего личности? Отчего эта потребность так сильно высказалась в социальных школах, вышедших из революции и ей обязанных своим существованием? Почему терминология революции: свобода, личность, равенство, вытеснена словами: общение, братство[1] и другими, заимствованными из семейного или общинного быта? В области изящной литературы совершаются также любопытные явления; укажем на один пример: Жорж Занд, которую, конечно, не назовут писателем, отсталым от века, истощив в прежних своих произведениях все виды страсти, все образы личности, протестующей против общества, в «Консуэло», «Жанне», в «Compagnon du tour de France», изображает красоту и спокойное могущество самопожертвования и самообладания; а в «Чертовой Луже» она пленяется мирною простотою семейного быта. Автор статьи «о юридическом быте древней России» должен видеть в этом отступление от нормального развития. Ему должно быть странно, почему на красноречивый голос Мицкевича взоры многих, в том числе и Жорж Занда, обратились к славянскому миру, который понят ими как мир общины, и обратились не с одним любопытством, а с каким-то участием и ожиданием[2].
Наконец, в первой строке одной из последних книг, полученных из Франции, мы читаем: «Три начала господствуют в мире и в истории: авторитет, индивидуализм[3] и братство». Заметьте: братство — слово, взятое из семейного быта — а не равенство. Какая же разница между отрицательным началом равенства и положительным братства, если не прирожденное чувство любви, которого нет в первом и которое составляет сущность второго?
Мы только намекнули на некоторые признаки направления, заключающего в себе если не зародыш, то переход к будущему; постарайтесь по ним вдуматься в этот ожидаемый, новый порядок, и решите по совести: которое племя к нему ближе и способнее не по степени относительной развитости, но по существу своему, определенному самим автором? Германцы, в «которых частые, вековые неприязненные столкновения с Римом, беспрерывные войны развили глубокое чувство личности, которые жили разрозненно, которых жестокость к рабам и побежденным была неумолима, у которых семейные отношения определены были юридически»; или славяне, «спокойные, миролюбивые, жившие на своих местах, не знавшие гибельного различия между моим и твоим, жившие как члены одной семьи, сознавшие свои отношения под формою родства, смотревшие на рабов и чужеземцев не с юридической, а с семейной, кровной точки зрения?» Не следует ли из всего этого, что германское племя или, точнее, романо-германский мир дошел до отвлеченной формулы, до требования такого начала, которое составляет природу племени славянского, что последнее дает живой, в самом бытии его заклю чающийся ответ на последний вопрос западного мира? Если так, то какая была нужда славянскому племени искусственно прививать к себе односторонность германского начала? Впрочем, автор не считает его односторонним; судя по его словам, он видит в нем и разумное оправдание прошедшего Западной Европы, и зародыш ее будущности — и не он один. Что касается до нас, то признаемся, мы никак не можем понять того логической го процесса, посредством которого из германского начала, предоставленного самому себе, из одной идеи личности, может возникать иное общество, кроме искусственной, условной ассоциации[4]? Каким образом начало разобщающее обратится в противоположное начало примирения и единения? Каким образом, говоря словами автора, понятие о личности перейдет в понятие о человеке? Само собою разумеется, что последнее принимается в смысле абсолютной нормы, обязательного закона, а не отвлеченного родового понятия, заключающего в своей широкой и равнодушной среде все возможные проявления личности.
В конце статьи г. Кавелин говорит: «Развивши начало личности донельзя, во всех его исторических, тесных, исключительных определениях, она (Европа) стремилась дать в гражданском обществе простор ч еловеку и пересоздавала это общество». Все это слишком неопре-делительно. Во-первых: что значит донельзя! Исчерпать все явления личности, согласитесь сами, так же трудно, как перебрать по пальцам все числа. Если вы скажете, что можно дойти до утомления, до сознания практической пользы и даже необходимости ограничить разгул личности, то мы заметим вам, что такого рода сознание, как результат самых разнородных и все-таки личных потребностей, не выведет из круга развития личности. Например: бедняк почувствует необходимость взять у богатого кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду; положим даже, что богатый почувствует со своей стороны необходимость уступить что-либо бедному, чтобы не довести последнего до отчаяния и не потерять всего; положим, что они сойдутся и с общего согласия постановят какой бы то ни было порядок. Этот порядок, для того я для другого, будет отнюдь не абсолютным человеческим законом, а только удобнейшим и вернейшим средством к достижению личного благосостояния. Представится другое средство, они за него ухватятся и будут правы; ибо, уступая внешней необходимости, личность ограничивала себя в пользу себя самой. До идеи человека мы все-таки не дошли и не дойдем. Итак, на личности, ставящей себя безусловно мерилом всего (это слова автора), может основаться только искусственная ассоциация, уже осужденная историей; но абсолютной нормы, закона, безусловно обязательного для всех и каждого, из личности путем логики вывести нельзя; следовательно, не выведет его и история. Наконец, откуда бы он ни пришел, в какой бы форме и под каким бы названием ни явился, вы должны сознаться, что перед ним личность утратит свое абсолютное значение: другая власть, от нее не зависящая, не ею созданная, воцарится над личностью и ограничит ее. Мерило личности будет уже не в ней самой, а вне ее; оно получит объективное, самостоятельное значение; в совпадении с ним личность найдет свое оправдание, в отступлении от него — свое осуждение.
Вы скажете, что это мерило не должно быть навязано, что личность, признавая в нем свой собственный идеал и подчиняясь ему, совершит акт свободы, а не рабства; так, — и следовательно, личности предстоит одно назначение: познать свою родовую норму, свой закон. Но для того, чтобы познать его, она должна признавать его существующим. Ей должно быть всегда присуще, хотя темное, сознание и закона, и своего несовершенства, своей неправоты перед ним; а это сознание несовместно с чувством неограниченного полновластия личности и ее значения как мерила для всего. Автор не нашел его в природе германцев.
Итак, должно различать личность с характером исключительности, ставящей себя мерилом всего, из себя самой создающую свои определения, и личность как орган сознания. Эти два вида автор беспрестанно смешивает; в одном только месте он различает их. Его необходимо выписать: «Личность, сознающая, сама по себе, свое бесконечное, безусловное достоинство — есть необходимое Условие всякого духовного развития народа. Этим мы совсем не хотим сказать, что она непременно должна ставить себя в противоположность с другими личностя ми, враждовать с ними. Мы, напротив, думаем, что последняя цель развития — их глубокое внутреннее примирение. Но, во всяком случае, каковы бы ни были ее отношения, она непременно должна существовать и сознавать себя». Автор различил историческое проявление личности враждующей от ее абсолютного значения, как сознающей себя; но тою же фразою он связал оба вида неразрывно, признав первый необходимым условием, как бы приготовлением ко второму. Примирение личностей есть последняя цель; путь к ней — вражда; личность непременно должна сознавать себя; сознание приобретается отрицанием, не логическим, разумеется, а полным практическим отречением от всех определяющих ее отношений.
Чтобы не упрекнули нас в искажении мысли автора, мы выведем ее другим путем, из его же статьи. Личность, видели мы, должна сознавать себя; без сознания нет личности, без личности нет сознания. «Начало личности у славян не существовало», — (эта фраза повторяется на каждой странице) следовательно, не существовало и сознания. Почему? — «Спокойные и миролюбивые, они (т.е. славяне) жили постоянно на своих местах. Семейственный быт и отношения не могли воспитать в русском славянине чувства особности, сосредоточенности, которое заставляет человека проводить резкую черту между собою и другими и всегда и во всем отличать себя от других. Такое чувство рождают в неразвитом человеке беспрестанная война, частые столкновения с чужеземцами, одиночество между ними, опасности, странствования... Семейный быт действует противоположно. Здесь человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убаюкивается, предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб и беспечен, как дитя». Итак, не было личности, т.е. не было сознания, потому что не было столкновений личностей между собою.
Эта картина ребяческой бессознательности семейного быта противопоставляется блистательной картине быта германцев, «их неприязненных столкновений, войн, переходов, внутреннего беспокойства и метания — признаков силы, ищущей пищи. Все это развило в них глубокое чувство личности», следовательно, сознания. «Им ос тавалось только возвести историческую личность, которую они принесли с собою, в личность человеческую, а славяно-русским», обделенным личностью, «приходилось создать ее», т.е. ценою восьмивековых усилий и страданий купить то, что вынесли германцы из своих лесов. Иными словами: германцу оставалось вырабатывать себя в человека; русский должен был сперва сделать из себя германца, чтобы потом научиться от него быть человеком.
И вот наконец мы дошли до исходной точки разбираемой нами статьи. Ключ к образу мыслей автора у нас в руках; мы понимаем, откуда произошла неполнота определения исторического влияния христианства, невероятная односторонность взгляда на развитие Западной Европы, пристрастное суждение о древнем быте германцев и славян, восхваление Иоанна Грозного и клевета на его современников. Все это вытекает как нельзя естественнее из одной мысли о способе приобретения сознания, а эта мысль есть, конечно, один из обильнейших источников современных заблуждений. Автор, к сожалению, не счел за нужное доказывать ее; он даже не высказал ее строго и положительно, хотя и не скрыл, как дело известное и всеми признанное. Что не доказано, того, разумеется, и опровергать нельзя, и потому нам остается в этом случае предложить автору вопрос: что бы такое могло дать нам право заключать, что там, где господствует быт семейный, нет личности в смысле сознания, или что тот, кто живет под определением семейного родства, не сознает в себе возможности отрешиться от него, или что человек, который никогда не бил другого и не бьет его, не сознает своей силы, или наконец, что человек, еще не лишивший себя жизни, не знает, что он живет? Все эти вопросы, в сущности, тождественны, и если они имеют вид шутки, неуместной в нашей рецензии, то в том виноваты не мы. Неужели признать более уместным в современной науке мнение о бессознательности как необходимой принадлежности родового быта и вытекающие отсюда последствия, что в начале XVIII века мы только что начинали жить умственно и нравственно?
Но последняя мысль еще впереди, и мы надеемся до нее дойти; теперь же, окончив разбор теоретической части, постараемся повторить ее, уже не в том порядке, в каком она изложена, но в том, в каком совершался, как нам кажется, процесс мысли в уме писавшего. Приняв германское национальное начало личности за абсолютное начало, германский процесс развития через отрицание за общечеловеческий процесс, он очень естественно указал в историческом влиянии христианства только на развитие идеи личности. Должно сказать, что односторонность его воззрения доведена до последней крайности. С этими готовыми понятиями он приступил к русской истории и, разумеется, определил ее отрицательно: его поразило отсутствие личности как безусловного мерила, т.е. германской личности, и отсюда он вывел отсутствие личности вообще, т.е. сознания, которому мешало господство родственного начала. Значит, все, что у нас было своего, предназначено было в сломку. Задача нашего исторического развития заключалась в том, чтобы очистить место для личности, приготовить лицо как форму, ибо содержания мы все-таки не могли выработать из себя; но к этому времени с готовым содержанием, то есть с мыслью о человеке, подоспела Европа, и мы его приняли извне. Итак, автор впал в обе ошибки, от которых предостерегал в начале статьи, в ответе, названным им простым; он искал ключа к правильному взгляду на русскую историю в теории, отвлеченной от германского развития, и определил древний быт России путем сравнения с историею тех же германцев. Впрочем, основное его стремление — создать теорию — спасено; неудачи его никто не припишет теоретическому направлению вообще.
***
Семейство и род представляют вид общежития, основанный на единстве кровном; город, с его областью — другой вид, основанный на единстве областном и позднее епархиальном; наконец, единая, обнимающая всю Россию государственная община, — последний вид выражение земского и церковного единства. Все эти формы различны между собою, но они суть только формы, моменты постепенного расширения одного общинного начала, одной потребности жить вместе в согласии и любви, потребности, сознанной каждым членом общины как верховный закон, обязательный для всех и носящий свое оправдание в самом себе, а не в личном произволении каждого. Таков общинный быт в существе его; он основан не на личности и не может быть на ней основан, но он предполагает высший акт личной свободы и сознания — самоотречение.
В каждом моменте его развития он выражается в двух явлениях, идущих параллельно и необходимых одно для другого. Вече родовое (н.п., княжеские сеймы) и родоначальник. Вече городовое и князь. Вече земское или Дума и царь. Первое служит выражением общего связующего начала; второе — личности.
Положим, взаимные отношения князей предопределялись родовым началом; но что такое князь в отношении к миру, если не представитель личности, равно близкий каждому, если не признанный заступник и ходатай каждого лица перед миром? Почему община не может обойтись без него? Какому требованию, глубокому, существенному, духа народного он отвечает, если не требованию сочувствия к страждущей личности, сострадания, благоволения и свободной милости?
Призвав его и поставив над собою, община выразила в живом образе свое живое единство. Каждый отрекся от своего личного полновластия и вместе спас свою личность в лице представителя личного начала. Вчитайтесь в простые, безыскусственные слова летописцев; в них вы найдете тайну народных сочувствий. В представления вашем возникнет идеальный образ князя, которого искала древняя Русь. В Ипатьевской летописи он даже выражен в общей хвалебной формуле, повторяющейся много раз с некоторыми изменениями, и которою летописец обыкновенно оканчивает жизнеописание князей. Какая черта повторяется в ней всего чаще? Это — благоволение ко всем, особенно к беззащитным и одиноким, к нищим, сиротам и инокам. Вспомните тип святого Владимира, высокий тон личности, который так и отражается во всех характеристиках князей: он не хотел проливать крови преступников; он прославился в народе пирами, угощениями, милостью.
Нет, не одной защиты, как думает г. Кавелин, община требовала от князя; князь был для нее не только военачальником, и в предпочтении одного князя другому видны следы не патриархального, доваряжского быта старейшин, а более возвышенного, христианского понятия о призвании личной власти, о нравственных обязанностях свободного лица.
Автор этого не видит, потому что он вовсе упустил влияние христианства и Византии; трудно поверить — он не говорит о нем ни единого слова и только под конец статьи упоминает, как бы мимоходом, что оно пересоздало семейный быт, истребило многоженство и наложничество. Между тем из его же определения христианства вытекает, что оно должно было содействовать эмансипации личности и разрешению исключительно-кровного быта. Учение, проповедующее отречение от отца и матери имени Божьего ради и ради того же имени освящающее родственный союз крови, следовательно, вносящее в него сознание; учение, распространяющее братские отношения на все человечество и, следовательно, возводящее их от естественного, природного факта до идеи; наконец, учение, низводящее начало верховной власти от Бога, — едва ли могло остаться без всякого влияния на развитие личности и юридических отношений. И если уж так много было говорено в разбираемой статье о влиянии варягов, не мешало бы сказать несколько слов о влиянии христианства, Византии и греческого духовенства. Неужели автор не видит, до какой степени осуществлению в государственной форме земского единства содействовало Предшествовавшее ему единство религиозное и устройство сосредоточенной иерархии?
Если бы г. Кавелин обратил внимание на этот предмет, ему представился бы случай разрешить следующее недоумение, естественно возникающее в уме читателя. По словам его, христианство внесло в историю мысль о бесконечном, безусловном достоинстве человека и человеческой личности. По его же словам, отличительный, племенной характер германцев заключался в глубоком чувстве личности; напротив того, у славяно-руссов начало личности вовсе не существовало. Из этого, разумеется мы выводим, что германцы были превосходно приготовлены к принятию христианства и гораздо способнее понять его и осуществить в своем быту, чем славяне, в этом отношении противоположные им. Так ли вышло на деле? По свидетельству истории, которое из двух племен, германское или славяно-русское, приняло христианство добровольнее, ближе к сердцу; которое прониклось им глубже и принесло в жертву более Народных предрассудков и безнравственных обычаев; которое распространяло его лучшими, наиболее с характером христианства согласными средствами? Наконец, если сравнить весь быт Киевской Руси в XI и XII веках и современный быт любого из германских племен, в котором из них влияние нового учения окажется наиболее ощутительным? Мы думаем, что, как бы автор ни разрешил этих вопросов, он похоронит свое построение под собственными его развалинами.
В заключение, автор повторяет свое основное пол ожение; мы выпишем его вполне и соберем свои возражения. «Итак, внутренняя история России — не безобразная груда бессмысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, стройное, органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после реформы! Исчерпавши все свои исключительно-национальные элементы, мы вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были прежде — русскими славянами. У нас не было начала личности: древняя русская жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться. Оттого-то мы так тесно и сблизились с Европою; ибо совершенно другим путем она к этому времени вышла к одной цели с нами. Развивши начало личности донельзя, во всех его исторических, тесных, исключительных определениях, она стремилась дать в гражданском обществе простор человеку и пересоздавала это общество. В ней наступал тоже новый порядок вещей, противоположный прежнему, историческому, в тесном смысле национальному. А у нас, вместе с началом личности, человек прямо выступил на сцену исторического действования, потому что личность в древней России не существовала и, следовательно, не имела никаких исторических определений. Того и другого не должно забывать, говоря о заимствовании и реформах России в XVIII веке: мы заимствовали у Европы не ее исключительно-национальные элементы; тогда они уже исчезли или исчезали. И у нее, и у нас речь шла тогда о человеке; сознательно или бессознательно — это все равно». Так думает автор; мы же думаем:
1. Что развитие германского начала личности, предоставленной себе самой, не имеет ни конца, ни выхода; что путем исчерпывания исторических явлений личности, до идеи человека, то есть о начале абсолютного соединения и подчинения личности под верховный закон, логически дойти нельзя; потому что процесс аналитический никогда не переходит сам собою в синтетический.
Что это начало (идея человека или, точнее, идея народа) явилось не как естественный плод развития личности, но как прямое ему противодействие и проникло в сознание передовых мыслителей Западной Европы из сферы религии. 3. Что западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — требование общины.
4. Что это требование совпадает с нашею субстанциею; что в оправдание формулы мы приносим быт, и в этом точка соприкосновения нашей истории с западною.
5. Что общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия.
6. Что в национальный быт славян христианство внесло сознание и свободу; что славянская община, так сказать, растворившись, приняла в себя начало общения духовного и стала как бы светскою, историческою стороною церкви.
7. Что задача нашей внутренней истории определяется как просветление народного общинного начала общин ным церковным.
8. Что внешняя история наша имела целью отстоять и спасти политическую независимость того же начала не только для России, но для всего славянского племени, созданием крепкой государственной формы, которая не исчерпывает общинного начала, но не и противоречит ему.
Половина этих тезисов имеет вид гипотез; не было ни возможности, ни намерения доказать их в статье, посвященной разбору чужого мнения. Главная цель наша была — опровергнуть его.
[1] Хотя слово братство пущено в ход еще в эпоху революции, но нельзя отрицать, что теперь его понимают иначе и глубже.
[2] Вспомним еще, что в статье о Жижке Ж.Занд, кажется, первая из западных писателей, поняла глубокий смысл восстания гуситов как отчаянной борьбы за сохранение целости церковной общины, в которую
католицизм вводил насильственно раздвоение, привилегированное сословие и т.д.
[3]Определение индивидуализма так похоже на то, которое дает автор
статьи, что его любопытно выписать:«Lе principe de l'individualisme est celui
qui, prenant l'homme en dehors de la société, le rend seul juge de ce qui l'entoure et de lui-même, lui donne un sentiment exalté, de ses droits, sans lui indiquer ses devoirs, l'abandonne à ses propres forces, et pour tout gouvernement, Proclame le laisser-faire».
[4] Заметим, что в книге Штейна (о социализме, у которого, как кажется, автор заимствовал теоретическую часть своей статьи), нить выводов обрывается именно на этом моменте.