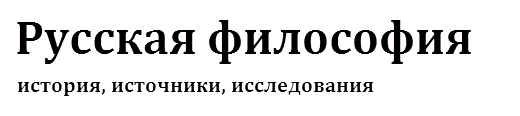В.С.Соловьев
Красота в природе
Красота спасет мир.
Достоевский i
Странно кажется возлагать на красоту спасение мира, когда приходится спасать саму красоту от художественных и критических опытов, старающихся заменить идеально-прекрасное реально-безобразным. Но если не смущаться грубыми, а иногда и совсем нелепыми выражениями новейшего эстетического реализма (и утилитаризма), а вникнуть в существенный смысл его требований, то в них именно и окажется безотчетное и противоречивое, но тем более дорогое признание за красотою мирового значения: ее кажущиеся гонители усвояют ей как раз эту самую задачу спасать мир. Чистое искусство, или искусство для искусства, отвергается, как праздная забава; идеальная красота презирается, как произвольная и пустая прикраса действительности. Значит, требуется, чтобы настоящее художество было важным делом, значит, признается за истинною красотою способность глубоко и сильно воздействовать на реальный мир. Освободивши требования новых эстетиков (реалистов и утилитаристов) от логических противоречий, в которые они обыкновенно запутываются, и сводя эти требования н одному, мы получим такую формулу: эстетически прекрасное должно вести к реальному улучшению действительности. Требование вполне справедливое; и, вообще говоря, от него никогда не отказывалось и идеальное искусство, его признавали и старые эстетики. Так, например, древняя трагедия, по объяснению Аристотеля (в его «Поэтике»), должна была производить действительное улучшение души человеческой чрез ее очищение (kЈqarsij)ii. Подобное же реально-нравственное действие приписывает Платон (в «Республике») некоторым родам музыки и лирики, укрепляющим мужественный духiii. С другой стороны, художественная пластика помимо своего эстетического влияния на душу представляет еще хотя весьма незначительное, поверхностное и частичное, но все-таки реальное, прямое и пребывающее воздействие на внешнюю вещественную природу – на материал, из которого это искусство создает свои произведения. Прекрасная статуя по отношению к простому куску мрамора есть бесспорно новый реальный предмет, и притом лучший, более совершенный (в объективном смысле), как более сложный и вместе с тем более обособленный. Если в этом случае улучшающее действие художества на материальный предмет имеет характер чисто внешний, нисколько не изменяющий существенных свойств самой вещи, то нет, однако, никаких оснований утверждать, что такой поверхностный образ действия должен непременно принадлежать искусству вообще всегда и во всех его видах. Напротив, мы имеем полное право думать, что воздействие художества как на природу вещей, так и на душу человеческую допускает различные степени, может быть более или менее глубоким и сильным.
Но во всяком случае, как бы слабо ни было это двоякое действие художника, он все-таки производит некоторые новые предметы и состояния, некоторую новую прекрасную действительность, которой без него вовсе бы не было. Эта прекрасная действительность или эта осуществленная красота составляет лишь весьма незначительную и немощную часть всей нашей далеко не прекрасной действительности. В человеческой жизни художественная красота есть только символ лучшей надежды, минутная радуга на темном фоне нашего хаотического существования. Против этой-то недостаточности художественной красоты, против этого поверхностного ее характера и восстают противники чистого искусства. Они отвергают его не за то, что оно слишком возвышенно, а за то, что оно не довольно реально, т.е. оно не в состоянии овладеть всею нашею действительностью, преобразовать ее, сделать всецело прекрасною. Быть может, сами не ясно это сознавая, они требуют от искусства гораздо большего, чем то, что оно до сих пор давало и дает. В этом они правы, ибо ограниченность наличного художественного творчества, эта призрачность идеальной красоты, выражает только несовершенную степень в развитии человеческого искусства, а никак не вытекает из самой его сущности. Было бы явною ошибкой считать существующие ныне способы и пределы художественного действия за окончательные и безусловно обязательные. Как и все человеческое, художество есть текущее явление, и, быть может, в наших руках только отрывочные начатки истинного искусства. Пускай сама красота неизменна; но объем и сила ее осуществления в виде прекрасной действительности имеют множество степеней, и нет никакого основания для мыслящего духа окончательно останавливаться на той ступени, которой мы не успели достигнуть в настоящую историческую минуту, хотя бы эта минута и продолжалась уже тысячелетия.
Имея в виду философскую теорию красоты и искусства, следует помнить, что всякая такая теория, объясняя свой предмет в его настоящем виде, должна открывать для него широкие горизонты будущего. Бесплодна та теория, которая только подмечает и обобщает в отвлеченных формулах фактическую связь явлений: это – простая эмпирия, лишь одною степенью возвышающаяся над мудростью народных примет. Истинно философская теория, понимая смысл факта, т.е. его соотношение со всем, что ему сродно, тем самым связывает этот факт с неопределенно восходящим рядом новых фактов, и, какою бы смелою ни казалась нам такая теория, в ней нет ничего произвольного и фантастического, если только ее широкие построения основаны на подлинной сущности предмета, открытой разумом в данном явлении или фазе этого предмета. Ибо сущность его необходимо больше и глубже данного явления, и, следовательно, по необходимости же она есть источник новых явлений, все более и более ее выражающих или осуществляющих.
Но во всяком случае сущность красоты должна быть прежде всего понята в ее действительных наличных явлениях. Из двух областей прекрасных явлений, природы и искусства, мы начнем с той, которая шире по объему, проще по содержанию и естественно (в порядке бытия) предшествует другой. Эстетика природы даст нам необходимые основания для философии искусства.
I
Алмаз, т.е. кристаллизованный углерод, по химическому составу своему есть то же самое, что обыкновенный уголь. Несомненно также, что пение соловья и неистовые крики влюбленного кота, по психофизиологической основе своей, суть одно и то же, именно звуковое выражение усиленного полового инстинкта. Но алмаз красив и дорого ценится за свою красоту, тогда как и самый невзыскательный дикарь вряд ли захочет употребить кусок угля в виде украшения. И между тем как соловьиное пение всегда и везде почиталось за одно из проявлений прекрасного в природе, кошачья музыка, не менее ярко выражающая тот же самый душевно-телесный мотив, нигде, никогда и никому не доставляла эстетического наслаждения.
Из этих элементарных примеров уже явствует, что красота есть нечто формально-особенное, специфическое, от материальной основы явлений прямо не зависящее и на нее несводимое. Независимая от материальной подкладки предметов и явлений, красота не обусловлена также и их субъективною оценкою по той житейской пользе и той чувственной приятности, которую они могут нам доставлять. Что самые прекрасные предметы бывают совершенно бесполезны в смысле удовлетворения житейских нужд и что, наоборот, вещи наиболее полезные бывают вовсе некрасивы – это, конечно, не требует доказательства; но нельзя обойти ту теорию, которая косвенно определяет красоту пользою. А именно она утверждает, что красота есть переставшая действовать полезность, или воспоминание о прежней пользе. То, что было полезно для предков, становится украшением для потомков. При смелом применении дарвинизма можно распространять это понятие о прежней пользе очень далеко и за предков наших считать не только обезьян или тюленей, но, пожалуй, даже и устриц. В этой теории превращения полезного в прекрасное есть доля фактической истины, и нам нет надобности ее отвергать. Несомненно только, что она совершенно недостаточна в смысле философского объяснения или существенного определения красоты.
Далее мы видим, что и на низших ступенях духовного развития (в мире животных) красота имеет объективное значение помимо всякого утилитарного отношения. Но хотя и была бы доказана генетическая зависимость прекрасного от полезного, этим нисколько не решается эстетическая задача. Несомненно, что все значительные явления прекрасного в природе и искусстве не связаны ни с какою практическою пользой для нас и для наших хотя бы самых отдаленных предков. А в таком случае возможная материальная полезность тех первичных элементов, на которые мы разлагаем прекрасные явления, так же мало имеет значения для эстетики, как для непосредственного чувства красоты безразличен тот факт, что самое прекрасное человеческое тело произошло из безобразного эмбриона.
Вопрос о том: что есть известный предмет? – никогда не совпадает с вопросом: из чего или откуда произошел этот предмет? Вопрос о происхождении эстетических чувств принадлежит к области биологии и психофизиологии; но этим нисколько не решается и даже не затрагивается эстетический вопрос о том: что есть красота? В порядке генетическом так называемые «каменные бабы», несомненно, предшествуют греческим статуям. Но неужели указание на эти безобразные произведения поможет нам уразуметь эстетическую сущность Венеры Милосской?.. Несомненно, что в генетическом смысле все наши чувства, не исключая и высших: зрения и слуха, суть лишь дифференциации осязания. Неужели этим отнимается самостоятельное значение у оптики и акустики? Разложение эстетических явлений на первичные элементы, имеющие свойство полезности или приятности, может быть очень интересно; но настоящая теория прекрасного есть та, которая имеет в виду собственную сущность красоты во всех ее явлениях, как простых, так и сложных. Как органическая химия, при всей своей важности для биолога, не может, однако, заменить ему собственно ботанических и зоологических исследований, так и психофизиологический анализ эстетических явлений никогда не получит значения настоящей эстетики1.
Каковы бы ни были ее материальные элементы, формальная красота всегда заявляет себя как чистая бесполезность. Однако эта чистая бесполезность высоко ценится человеком, и, как увидим далее, не человеком только. И если она не может цениться как средство для удовлетворения тех или других житейских или физиологических потребностей, то, значит, она ценится как цель сама в себе. В красоте – даже при самых простых и первичных ее проявлениях – мы встречаемся с чем-то безусловно-ценным, что существует не ради другого, а ради самого себя, что самым существованием своим радует и удовлетворяет нашу душу, которая на красоте успокаивается и освобождается от жизненных стремлений и трудов.
Это древнегреческое понятие о красоте как предмете бесстрастного, бескорыстного и безвольного созерцания, или, проще, как о чистой бесполезности, в недавнее время было возобновлено и распространено последним представителем великой германской философии. Впрочем, все, что Шопенгауэр так хорошо и верно говорит на эту тему, есть в сущности не более как философский комментарий на известное двустишие, мимоходом брошенное Гете:
Die Sterne die begehrt man nicht:
Man freut sich ihrer Prachtiv.
Нет надобности долго останавливаться на этой стороне дела, во-первых, потому, что она исчерпана франкфуртским мыслителем, а во-вторых, потому, что она сама далеко не исчерпывает вопроса о красоте. Сказать, что красота есть предмет бескорыстного созерцания, или цель сама в себе, – значит только сказать, что она не есть средство для посторонних целей: определение совершенно верное, но чисто отрицательное и бессодержательное. Как ни важно для мыслителя свойство безволия и бескорыстности, присущее всякой чисто эстетической оценке, но еще важнее и интереснее для него вопрос о собственной положительной сущности красоты; и недаром гениальный поэт к своему отрицательному указанию: die Sterne die begehrt man nicht – прибавил и положительное: man freut sich ihrer Pracht. В чем же, собственно, состоит эта Pracht во всяком прекрасном предмете – вот что главным образом должна решить философская эстетика. Как цель сама в себе, красота ничему служить не может – в практическом и житейском смысле она есть чистая бесполезность; но этим нисколько не устраняется вопрос о независимом содержании самой этой цели: за что, за какое свое собственное внутреннее свойство ценится эта чистая бесполезность?
Намек, но только намек на истину находим мы в известном учении, по которому существенное содержание красоты составляют идеи (вечные типы вещей) как предметные выражения (объективации) мировой волиv. Настоящего ответа на эстетический вопрос здесь нет – потому что для этой теории все существующее одинаково есть объективация мировой воли, а между тем не все существующее одинаково красиво. Взгляд, который логически вынуждается признать какую-нибудь глисту столь же прекрасной, как Елену на стенах Трои, сам себя убивает в смысле эстетической доктрины. Существуют отвлеченно метафизические точки зрения, не совместимые с признанием разницы между добром и злом, между красотою и безобразием; но, становясь на такие точки зрения, лучше уже вовсе не рассуждать о нравственных и эстетических предметах.
II
Итак, оставляя в стороне отвлеченную метафизику, обратимся опять к тем действительным примерам прекрасного в природе, с которых началось наше рассуждение. Красота алмаза, нисколько не свойственная его веществу (ибо это вещество то же самое, что и в некрасивом куске каменного угля), очевидно, зависит от игры световых лучей в его кристаллах. Из этого, однако, не следует, чтобы свойство красоты принадлежало не самому алмазу, а преломленному в нем лучу света. Ибо тот же световой луч, отраженный каким-нибудь некрасивым предметом, никакого эстетического впечатления не производит, а если он ничем не отражен и не преломлен, то и вовсе никакого впечатления не получается. Значит, красота, не принадлежащая ни материальному телу алмаза, ни преломленному в нем световому лучу, есть произведение обоих в их взаимодействии. Игра света, задержанного и видоизмененного этим телом, закрывает совершенно его грубо-вещественную видимость, и хотя темная материя углерода присутствует здесь, как и в угле, но лишь в виде носительницы другого, светового начала, раскрывающего в этой игре цветов свое собственное содержание. Световой луч когда падает на кусок угля, то поглощается его веществом, и черный цвет сего последнего есть натуральный символ того, что здесь светлая сила не одолела темных стихий природы. С другой стороны, если мы возьмем, например, простое прозрачное стекло, то здесь вещество превратилось в безразличную среду для световых лучей, пропускающую их без всякого видоизменения, не оказывающую на них никакого заметного воздействия; и несомненно, что от этих двух противуположных между собой явлений результат в занимающем нас отношении получается один и тот же, и именно отрицательный: простое белое стекло, так же как и черный уголь, не принадлежит к числу прекрасных явлений, никакого эстетического значения не имеет. И если такое значение (в элементарной степени) бесспорно принадлежит алмазу, то это, очевидно, потому, что в нем ни темное вещество, ни световое начало не пользуются односторонним преобладанием, а взаимно проникают друг друга в некотором идеальном равновесии. Здесь, с одной стороны, материя углерода, сохраняя всю силу своего сопротивления (как твердое тело), определилась, однако же, противуположным в себе самой, ставши прозрачною, вполне просветленною, невидимою в своей темной особности; а с другой стороны, световой луч, задержанный кристаллическим телом алмаза, в нем и от него получает новую полноту феноменального бытия, преломляясь, разлагается или расчленяется в каждой грани на составные цвета, из простого белого луча превращается в сложное собрание многоцветных спектров и в этом новом виде отражается нашему глазу. В этом неслиянном и нераздельном соединении вещества и света оба сохраняют свою природу, но ни то, ни другое не видно в своей отдельности; а видна одна светоносная материя и воплощенный свет – просветленный уголь и окаменевшая радуга.
Невозможно, да и нет нам никакой надобности утверждать безусловную противоположность между светом и материей в их метафизической субстанции и в их физической действительности. Нельзя признавать свет (как это делает, например, Шопенгауэр) за какую-то чисто идеальную сущность, а равно и в материи нельзя видеть голую вещь о себе, безусловно лишенную всех идеальных определений и совершенно независимую от духовных начал. Но как бы кто ни философствовал о существе вещей, а равно и каких бы кто ни держался физических теорий об атомах, эфире и движении, для нашей эстетической задачи вполне достаточно той относительной и феноменальной противуположности, которая несомненно существует между светом и весомыми телами как таковыми. В этом смысле свет есть во всяком случае сверхматериальный, идеальный деятель. Итак, видя, что красота алмаза всецело зависит от просветления его вещества, задерживающего в себе и расчленяющего (развивающего) световые лучи, мы должны определить красоту как преображение материи чрез воплощение в ней другого, сверхматериального начала. Далее придется углублять и наполнять содержанием это определение; но сущность его останется неизменною при рассмотрении самых сложных проявлений прекрасного не только в природе, но и в искусстве.
И прежде всего это понятие о красоте, составленное на основании элементарного примера прекрасных зрительных явлений в природе, вполне подтверждается нашим элементарным звуковым примером. Как в алмазе весомое и темное вещество углерода облеклось в лучезарное световое явление, так в пении соловья материальный половой инстинкт облекается в форму стройных звуков. В этом случае объективное звуковое выражение половой страсти совершенно закрывает ее материальную основу, оно приобретает самостоятельное значение и может быть отвлечено от своего ближайшего физиологического мотива: можно слушать поющую птицу и получать эстетическое впечатление от ее пения, совершенно забывая о том, что побуждает ее петь; точно так же как, любуясь блеском бриллианта, мы не имеем надобности думать о его химическом веществе. Но на самом деле, как для алмаза необходимо быть кристаллизованным углеродом, так для соловьиной песни необходимо быть выражением полового влечения, отчасти перешедшего в объективную звуковую форму. Эта песня есть преображение полового инстинкта, освобождение его от грубого физиологического факта – это есть животный половой инстинкт, воплощающий в себе идею любви, между тем как крики влюбленного кота на крыше суть лишь прямое выражение физиологического аффекта, не владеющего собою. В этом последнем случае всецело преобладает материальный мотив, тогда как в первом он уравновешен идеальною формой.
Таким образом, и в нашем звуковом примере красота оказывается результатом взаимодействия и взаимного проникновения двух производителей: и здесь, как в зрительном примере, идеальное начало овладевает вещественным фактом, воплощается в нем, и с своей стороны материальная стихия, воплощая в себе идеальное содержание, тем самым преображается и просветляется.
Красота есть действительный факт, произведение реальных естественных процессов, совершающихся в мире. Где весомое вещество преобразуется в светоносные тела, где неистовое стремление к осязательному животному акту превращается в ряд стройных и мерных звуков, – там мы имеем красоту в природе. Она отсутствует везде, где материальные стихии мира являются более или менее обнаженными, будь то в мире неорганическом, как грубое, бесформенное вещество, будь то в мире живых организмов, как неистовый жизненный инстинкт. Впрочем, в неорганическом мире те предметы и явления, которые некрасивы, не становятся чрез это безобразными, а остаются просто безразличными в эстетическом отношении. Куча песку или булыжнику, обнаженная почва, бесформенные серые облака, изливающие мелкий дождь, – все это в природе хотя и лишено красоты, но не имеет в себе ничего положительно-отвратительного. Причина ясна: в явлениях этого порядка мировая жизнь находится на низших, элементарных ступенях, она малосодержательна, и материальному началу не на чем проявить безмерность своего сопротивления; оно здесь сравнительно в своей области и пользуется спокойным обладанием своего скудного бытия. Но там, где свет и жизнь уже овладели материей, где всемирный смысл уже стал раскрывать свою внутреннюю полноту, там несдержанное проявление хаотического начала, снова разбивающего или подавляющего идеальную форму, естественно, должно производить резкое впечатление безобразия. И чем на высшей ступени мирового развития проявляется вновь обнаженность и неистовость материальной стихии, тем отвратительнее такие проявления. В животном царстве мы уже встречаем крупные примеры настоящего безобразия. Здесь есть целые отделы существ, которые представляют лишь голое воплощение одной из материальных жизненных функций – половой или питательной. Таковы, с одной стороны, некоторые внутренностные черви (глисты), все тело которых есть не что иное, как мешок самого элементарного строения, заключающий в себе одни только половые органы, напротив, весьма развитые. С другой стороны, червеобразные личинки насекомых (гусеница и т.п.) суть как бы один воплощенный инстинкт питания во всей его ненасытности; то же до известной степени можно сказать и об огромных головоногих моллюсках (каракатицы). Все названные животные несомненно безобразны. Но крайней степени безобразие достигает лишь в области высшей и совершеннейшей природной формы: никакое животное не может быть так отвратительно, как очень безобразный человек.
Существованием безобразных типов в природе обличается несостоятельность (или по крайней мере недостаточность) того ходячего эстетического взгляда, который видит в красоте лишь совершенное наружное выражение внутреннего содержания безразлично к тому, в чем состоит само это содержание. Согласно такому понятию, следует приписать красоту каракатице или свинье, так как тело этих животных в совершенстве выражает их внутреннее содержание, именно прозорливость. Но тут-то и ясно, что красота в природе не есть выражение всякого содержания, а лишь содержания идеального, что она есть воплощение идеи.
III
Определение красоты как идеи воплощенной первым своим словом (идея) устраняет тот взгляд, по которому красота может выражать всякое содержание, а вторым словом (воплощенная) исправляет и тот (еще более распространенный) взгляд, который хотя и требует для нее идеального содержания, но находит в красоте не действительное осуществление, а только видимость или призрак (Schein) идеи2. В этом последнем воззрении прекрасное как субъективный психологический факт, т.е. ощущение красоты, ее явление или слияние в нашем духе, заслоняет собою саму красоту как объективную форму вещей в природе. Поистине же красота есть идея, действительно осуществляемая, воплощаемая в мире прежде человеческого духа, и это ее воплощение не менее реально и гораздо более значительно (в космогоническом смысле), нежели те материальные стихии, в которых она воплощается. Игра световых лучей в кристаллическом теле во всяком случае не менее реальна, чем химическое вещество этого тела, и модуляция птичьей песни есть такая же естественная реальность, как и акт размножения.
Красота или воплощенная идея есть лучшая половина нашего реального мира, именно та его половина, которая не только существует, но и заслуживает существования. Идеей вообще мы называем то, что само по себе достойно быть. Безусловно говоря, достойно бытия только всесовершенное или абсолютное существо, вполне свободное от всяких ограничений и недостатков. Частные или ограниченные существования, сами по себе не имеющие достойного или идеального бытия, становятся ему причастны чрез свое отношение к абсолютному во всемирном процессе, который и есть постепенное воплощение его идеи. Частное бытие идеально или достойно, лишь поскольку оно не отрицает всеобщего, а дает ему место в себе, и точно так же общее идеально или достойно в той мере, в какой оно дает в себе место частному. Отсюда легко вывести следующее формальное определение идеи или достойного вида бытия. Она есть полная свобода составных частей в совершенном единстве целого.
Самостоятельность частей или простор бытия в разных предметах и явлениях может быть более или менее полным; единство целого, дающего этот простор своим частям, может быть более или менее совершенным. Из таких относительных различий вытекает множество степеней в осуществлении идеи, все разнообразие и вся сложность мирового процесса. Но помимо частных усложнений в процессе своего осуществления всемирная идея в самой общности своей представляется необходимо с трех сторон. В ней различаются: 1) свобода или автономия бытия, 2) полнота содержания или смысла и 3) совершенство выражения или формы. Без этих трех условий нет достойного или идеального бытия. Рассматриваемая преимущественно со стороны своей внутренней безусловности, как абсолютно желанное или изволяемое, идея есть добро; со стороны полноты обнимаемых ею частных определений, как мыслимое содержание для ума, идея есть истина; наконец, со стороны совершенства или законченности своего воплощения, как реально ощутимая в чувственном бытии, идея есть красота.
Таким образом в красоте, как в одной из определенных фаз триединой идеи, необходимо различать общую идеальную сущность и специально-эстетическую форму. Только эта последняя отличает красоту от добра и истины, тогда как идеальная сущность у них одна и та же – достойное бытие или положительное всеединство, простор частного бытия в единстве всеобщего. Этого мы желаем как высшего блага, это мыслим как истину и это же ощущаем как красоту; но для того, чтобы мы могли ощущать идею, нужно, чтобы она была воплощена в материальной действительности. Законченностью этого воплощения и определяется красота как такая в своем специфическом признаке.
Критерий достойного или идеального бытия вообще есть наибольшая самостоятельность частей при наибольшем единстве целого. Критерий эстетического достоинства есть наиболее законченное и многостороннее воплощение этого идеального момента в данном материале. Понятно, что в применении к частным случаям эти критерии могут вовсе не совпадать и должны быть строго различаемы. Весьма слабая степень достойного или идеального бытия может быть в высшей степени хорошо воплощена в данном материале, и точно так же возможно крайне несовершенное выражение самых высших идеальных моментов. В области искусства это различие бросается в глаза, и здесь два критерия – общеидеальный и специально-эстетический – могут смешиваться только умами, совсем необразованными. Различие менее явно в области природы, но и в ней оно несомненно существует, и очень важно его не забывать. Возьмем опять два старые примера: с одной стороны, внутренностного червя (глисту), а с другой – алмаз. Первый выражает в некоторой степени идею жизни в виде животного организма; второй, по своему идеальному содержанию, есть некоторая степень просветления неорганического вещества. Но идея органической жизни, хотя бы и на степени червя, выше идеи кристаллического тела, хотя бы и в виде алмаза. В этом последнем материя лишь извне просветлена, тогда как в черве она внутренно оживотворена. В самом простом организме мы находим совокупность большего числа особенных частей и большее их единство, нежели в самом совершенном камне; всякий организм более сложен и вместе с тем более индивидуален, чем камень. Итак, по первому критерию глиста выше алмаза, потому что содержательнее его. Но, прилагая собственно эстетический критерий, мы приходим к другому заключению. В алмазе простая, элементарная идея просветленного минерала (благородного камня) выражена законченнее и совершеннее, нежели как более сложная и высокая идея органической (в частности, животной) жизни выражена в глисте. Алмаз есть предмет в своем роде совершенный, ибо нигде такая сила сопротивления или непроницаемости не соединяется с такою светозарностью, нигде не встречается такая яркая и тонкая игра света в таком твердом теле. В черве, напротив, мы находим одно из несовершеннейших, зачаточных выражений для той идеи органической жизни, к области которой это существо принадлежит. Хотя уже по самому химическому составу своих тканей червь есть тело более сложное, чем алмаз, но организация этого тела есть самая упрощенная и скудная. Точно так же хотя по силе индивидуального единства этот простейший организм все-таки превосходит всякий алмаз, ибо не может, подобно сему последнему, безразлично дробиться, оставаясь самим собою, однако в смысле органическом это единство настолько слабо, что даже иногда не выдерживает идеи организма (способность делиться по членикам). Таким образом, с точки зрения собственно эстетической червь, как крайне несовершенное воплощение своей хотя сравнительно и высокой идеи (животного организма), должен быть поставлен неизмеримо ниже алмаза, который есть совершенное, законченное выражение своей, хотя и малосодержательной, идеи просветленного камня.
IV
Вещество есть косность и непроницаемость бытия – прямая противоположность идее, как положительной всепроницаемости или всеединству. Лишь в свете вещество освобождается от своей косности и непроницаемости, и таким образом видимый мир впервые расчленяется на две противоположные полярности. Свет или его невесомый носитель – эфир есть первичная реальность идеи в ее противоположности весомому веществу, и в этом смысле он есть первое начало красоты в природе. Дальнейшие ее явления обусловлены сочетаниями света с материей. Такие сочетания бывают двоякого рода; механические, или наружные, и органические, или внутренние. Первыми производятся собственно световые явления в природе, вторыми – явления жизни. Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, что органическая жизнь есть превращение света. Таким образом, материя становится носительницей красоты чрез действие одного и того же светового начала, которое ее сперва поверхностно озаряет, а затем внутренно проникает, животворит и организует.
В мире неорганическом красота принадлежит или таким предметам и явлениям, в которых вещество прямо становится носителем света, или таким, в которых неодушевленная природа как бы одушевляется и в своем движении являет черты жизни. Оставляем метафизике решать вопрос, насколько тут субъективной иллюзии и насколько действительно природа, помимо органических существ (растений и животных), имеет в себе жизни, т.е. способности к внутренним восприятиям и самостоятельным движениям. Для нас, в пределах эстетического рассуждения, достаточно того факта, что в явлениях, о которых идет речь, красота их обусловлена не механическим движением как таковым, а впечатлением игры живых сил. Но сначала несколько слов о красоте неорганической природы в ее покое, о красоте чисто светового характера.
Порядок воплощения идеи или явления красоты в мире соответствует общему космогоническому порядку: вначале сотвори Бог небо… Если наши предки видели в небе отца богов, то мы, и не поклоняясь Сварогу или Варунеvi, и вовсе не усматривая в небесном своде признаков живого личного существа не менее язычников любуемся его красотой; следовательно, она не зависит от наших субъективных представлений, а связана с действительными свойствами, присущими видимому нам мировому пространству. Эти эстетические свойства неба обусловлены светом: оно прекрасно только озаренное. Ни в серый дождливый день, ни в черную, беззвездную ночь небо никакой, красоты не имеет. Говоря об этой красоте, мы разумеем, собственно, лишь световые явления, происходящие в пределах доступного нашим взглядам мирового пространства.
Всеобъемлющее небо прекрасно, во-первых, как образ вселенского единства, как выражение спокойного торжества, вечной победы светлого начала над хаотическим смятением, вечного воплощения идеи во всем объеме материального бытия. Этот общий смысл раскрывается более определенно в трех главных видах небесной красоты – солнечной, лунной и звездной.
1. Мировое всеединство и его физический выразитель – свет в своем собственном активном средоточии – солнце. Солнечный восход – образ деятельного торжества светлых сил. Отсюда особенная красота неба в эту минуту, когда
По всей
Неизмеримости эфирной
Несется благовест всемирный
Победных солнечных лучей.
Тютчевvii
Сияющая красота неба в ясный полдень – то же торжество света, но уже достигнутое, не в действии, а в невозмутимом неподвижном покое.
И как мечты почиющей природы
Волнистые проходят облака.
Фетviii
2. Мировое всеединство со стороны воспринимающей его материальной природы, свет отраженный – пассивная женственная красота лунной ночи. Как естественный переход от солнечного вида к лунному – красота вечернего неба и заходящего солнца, когда уменьшение прямой центральной силы света вознаграждается большим разнообразием его оттенков в озаренной среде.
3. Мировое всеединство и его выразитель, свет, в своем первоначальном расчленении на множественность самостоятельных средоточий, обнимаемых, однако, общею гармонией, – красота звездного неба. Ясно, что в этой последней полнее и совершеннее, нежели в двух первых, осуществляется идея положительного всеединства. Впрочем, не должно забывать, что как непосредственное впечатление от красоты яркого полдня или лунной ночи, так и эстетическая оценка этой красоты обнимает необходимо всю картину природы в данный момент, все те земные предметы и явления, которые озарены солнцем и луною и которые имеют свою собственную красоту, усиленную этим особенным озарением, но в свою очередь увеличивающую красоту светлого неба, тогда как при созерцании звездной ночи эстетическое впечатление всецело ограничивается самим небом, а красота земных предметов, сливающихся во мраке, не может иметь значения. Если устранить эту неравномерность и, при эстетической оценке полдневного и лунного неба, отвлечься от красоты озаренного ландшафта, то всякий согласится, что из трех главных видов неба звездное представляет наибольшую степень красоты3.
Из астральной бесконечности переходя в тесные пределы нашей земной атмосферы, мы встречаемся здесь с прекрасными явлениями, изображающими в различной степени просветление материи или воплощение в ней идеального начала. В этом смысле имеют самостоятельную красоту облака, озаренные утренним или вечерним солнцем, с их различными оттенками и сочетаниями цветов, северное сияние и т.д. Полнее и определеннее ту же идею (взаимного проникновения небесного света и земной стихии) представляет радуга, в которой темное и бесформенное вещество водяных паров превращается на миг в яркое и полноцветное откровение воплощенного света и просветленной материи:
Как неожиданно и ярко
По влажной неба синеве
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла;
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла!
Тютчевix
К световому прекрасному принадлежит и красота спокойного моря. В воде материальная стихия впервые освобождается от своей косности и непроницаемой твердости. Этот текучий элемент есть связь неба и земли, и такое его значение наглядно является в картине затихшего моря, отражающего в себе бесконечную синеву и сияние небес. Еще яснее этот характер водяной красоты в гладком зеркале озера или реки.
К воплощениям света в материи газообразной (облака, радуга) и к сейчас упомянутым его воплощениям в материи жидкой должно присоединить еще световые воплощения в твердых телах – благородные металлы и драгоценные камни. Сюда относится в большей или меньшей степени сказанное выше по поводу алмаза.
V
От явлений спокойного, торжествующего света переходим к явлениям подвижной и кажущейся свободной жизни в неорганической природе. Жизнь по самому широкому своему определению есть игра или свободное движение частных сил и положений, объединенных в индивидуальном целом. Поскольку в этой игре выражается один из существенных признаков идеального или достойного бытия (которое одинаково не может быть ни отвлеченно-всеобщим, т.е. пустым, ни случайно-частным), постольку воплощение ее в явлениях материального мира, действительная или кажущаяся жизнь в природе представляет эстетическое значение. Этою красотою видимой жизни в неорганическом мире отличается прежде всего текущая вода в разных своих видах: ручей, горная речка, водопад. Эстетический смысл этого живого движения усиливается его беспредельностью, которая как бы выражает неутолимую тоску частного бытия, отделенного от абсолютного всеединства.
Волна в разлуке с морем
Не ведает покою,
Ключом ли бьет кипучим
Иль катится рекою,
Все ропщет и вздыхает
В цепях и на просторе,
Тоскуя по безбрежном,
Бездонном синем мореx.
А само это безбрежное море в своем бурном волнении получает новую красоту как образ мятежной жизни, гигантского порыва стихийных сил, не могущих, однако, расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его единства, а только наполняющих его движением, блеском и громом.
Как хорошо ты, о море ночное,
Здесь лучезарно – там сизо-черно!
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и плещет оно.
На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром…
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!
Зыбь ты великая, зыбь ты морская!
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.
Тютчевxi
Хаос, т.е. само безобразие, есть необходимый фон всякой земной красоты, и эстетическая ценность таких явлений, как бурное море, зависит именно от того, что под ними хаос шевелится.
Движение живых стихийных сил в природе имеет два главных оттенка: свободной игры и грозной борьбы. Одно и то же явление природы, гроза, может представлять и тот и другой оттенок, смотря по условиям, в которых она происходит. Величавая красота летних гроз, как и бурного моря, зависит от шевелящегося хаоса и от возбужденной интенсивности стихийных сил, оспаривающих окончательное торжество у светлого мирового порядка. Совсем другое впечатление производит гроза «в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые…
Вот дождик брызнул, пыль летит…
Повисли перлы дождевые,
И солнце нивы золотит…
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный,
Все вторит весело громам…
Ты скажешь, ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба
Смеясь на землю пролила.
Тютчевxii
А вот у того же поэта картина наступающей грозы в летнюю ночь, в момент, когда хаотические силы еще только медленно готовятся к предстоящей, страшной борьбе:
Не остывшая от зною
Ночь июльская блистала,
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
От зарниц все трепетало….
Словно тяжкие ресницы
Разверзалися порою,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею….xiii
Или еще лучше:
Одне зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.
Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса!
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Решалось там, на высоте….xiv
Поскольку и в неорганическом мире в некоторых его явлениях мы находим действительное предварение (антиципатию) жизни, чем и обусловливается эстетическое значение этих явлений, постольку и звуки в неорганической природе, как выражения ее собственной жизни, приобретают свойство красоты. В жизни материальная природа внутренно проникается светом, поглощает его, претворяет во внутреннее движение и затем сообщает это движение внешней среде – в звуке. Там, где этот общий идеальный смысл звука как живого ответа материи на влияние света (статуя Мемнона, звучавшая на заре) не ясен для нас в частном звуковом явлении, там, где тела звучат не от себя, а лишь от внешнего и для них самих случайного воздействия, там не получается и никакого эстетического впечатления от звука4. При этом бывает и так, что известные звуки, которые в своей отдельности имеют явно механический характер и потому не производят никакого впечатления красоты, в совокупности своей могут выражать жизнь некоторого собирательного целого и в этом качестве приобретают эстетическое значение. Так, например, в стуке колес по мостовой нет ничего прекрасного, но шум города, хотя и слагается главным образом из подобных некрасивых звуков, производит, однако, в своей совокупности (т.е. издали) несомненно эстетическое впечатление. Европейские города с их неопределенно разросшимися окрестностями представляют мало удобств для такого наблюдения. Но кому случалось подходить к большому восточному городу, например Каиру, от тех сторон, где он граничит с пустыней, тот, наверно, с наслаждением прислушивался к звучащей жизни этого собирательного животного.
В тех явлениях неорганической природы, о которых мы уже говорили (бурное море, гроза), звук входит лишь как один из элементов эстетического впечатления. В бушующем море уже самый вид волн являет характер жизни помимо их шума.
Ты волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!
Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод.
Тютчевxv
Тому же поэту волна по своему виду и живому движению представляется скачущим морским конем:
О рьяный конь, о конь морской
С бледно-зеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бешено-игривый.
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком Божьем поле,
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!xvi
В иных случаях полное безмолвие в природе прямо усиливает эстетическое впечатление или даже составляет необходимое его условие, как это мы выше видели (у того же поэта) в картине наступающей ночной грозы. Зато в других явлениях неорганического мира весь жизненный и эстетический их смысл выражается исключительно в одних звуковых впечатлениях. Таковы скорбные вздохи скованного в космической темнице Хаоса.
О чем ты воешь, ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумный?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке,
И роешь, и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться…
О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!…
Тютчевxvii
VI
Порывы стихийных сил или стихийного бессилия, сами по себе чуждые красоты, порождают ее уже в неорганическом мире, становясь волей или неволей, в различных аспектах природы, материалом для более или менее ясного и полного выражения всемирной идеи или положительного всеединства.
Зиждительное начало вселенной (Логос), отражающееся от вещества снаружи, как свет, и изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных и растительных организмов определенные и устойчивые формы жизни, которые, восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут наконец послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и неделимой идеи.
Реальная подкладка органических форм, материал биологического процесса берется весь в мире вещественном: это – добыча, завоеванная зиждительным умом у хаотической материи. Иными словами, органические тела суть лишь превращения, или трансформации, неорганического вещества, в таком же, впрочем, смысле, в каком Исаакиевский собор есть трансформация гранита, а Венера Милосская – трансформация мрамора. Признавать в живых телах особую, исключительно им присущую жизненную силу – это все равно что приписывать храму особую храмовую силу, а статуе – особенную ваятельную силу. Явно, что с точки зрения реального состава в органических телах нет совсем ничего, кроме физических и химических элементов, точно так же как с этой точки зрения в храме нет ничего, кроме камня, золота и прочих материалов, а в мраморной статуе – ничего, кроме мрамора. А с формальной стороны в строении живых организмов мы имеем новую, сравнительно высшую степень проявления того же зиждительного начала, которое уже действовало и в мире неорганическом, – новый, относительно более совершенный способ воплощения той же идеи, которая уже находила себе выражения и в неодушевленной природе, хотя более поверхностные и менее определенные. Тот же самый образ всеединства, который всемирный художник крупными и простыми чертами набросал на звездном небе или в многоцветной радуге, – его же он подробно и тонко разрисовывает в растительных и животных телах.
В мире органических существ различаются нами три главные стороны: 1) внутренняя сущность или prima materiaxviii жизни, стремление или хотение жить, т.е. питаться и размножаться – голод и любовь (более страдательные в растениях, более деятельные в животных); 2) образ этой жизни, т.е. те морфологические и физиологические условия, которыми определяются питание и размножение (а в связи с ними и прочие, второстепенные функции) каждого органического вида, и, наконец, 3) биологическая цель – не в смысле внешней телеологии, а с точки зрения сравнительной анатомии, определяющей относительно целого органического мира место и значение тех частных форм, которые в каждом виде поддерживаются питанием и увековечиваются размножением. Самая биологическая цель при этом является двоякою: с одной стороны, органические виды суть ступени (частью преходящие, частью пребывающие) общего биологического процесса, который от водяной плесени доходит до создания человеческого тела, а с другой стороны, эти виды можно рассматривать как члены всемирного организма, имеющие самостоятельное значение в жизни целого.
Общая картина органического мира представляет две основные черты, без равномерного признания которых невозможно никакое понимание мировой жизни, никакая философия природы, а следовательно, и никакая эстетика природы. Во-первых, несомненно, что органический мир не есть произведение так называемого непосредственного творчества или что он не может быть прямо выведен из одного абсолютного творческого начала, ибо в таком случае он должен бы был представлять безусловное совершенство, безмятежность и гармонию не только в целом, но и во всех своих частях. Между тем действительность далеко не соответствует такому оптимистическому представлению. В этом случае некоторые факты и открытия положительной науки имеют решающее значение. Рассматривая земной органический мир, особенно в его палеонтологической истории, достаточно известной в наши дни, мы находим здесь резко очерченную картину трудного и сложного процесса, определяемого борьбою разнородных начал, которая лишь после долгих усилий разрешается некоторым устойчивым равновесием. Это всего менее похоже на безусловно совершенное создание, непосредственно исходящее из творческой воли одного божественного художника. Наша биологическая история есть замедленное и болезненное рождение5. Мы видим здесь явные знаки внутреннего противоборства, толчки и судорожные сотрясении, слепые движения ощупью; неоконченные наброски неудачных созданий – сколько чудовищных порождений и выкидышей! Все эти palaeozoaxix, эти допотопные чудища: мегатерии, плезиозавры, ихтиозавры, птеродактили – могут ли они быть совершенным и непосредственным творением Божьим? Если бы они удовлетворяли своему назначению и заслуживали одобрение Творца, как могло бы случиться, что они окончательно исчезли с нашей земли, уступив место формам более уравновешенным и гармоническим.
Тем не менее хотя животворный деятель мирового процесса и бросает без сожаления свои неудобные пробы, однако – и в этом вторая основная черта органической природы – он дорожит не одною только целью процесса, а каждою из его бесчисленных ступеней, лишь бы эта ступень в свою меру и по-своему хорошо воплощала идею жизни. Отвоевывая шаг за шагом у хаотических стихий материал для своих органических созданий, космический ум бережет каждую свою добычу и покидает только то, в чем его победа была мнимою, на что безмерность хаоса наложила свою неизгладимую печать.
Вообще зиждительное начало природы неравнодушно к красоте своих произведений. Поэтому в царстве животном, где встречаются положительно безобразные творения, они или принадлежат к видам исчезнувшим (так называемым допотопным), т.е. отброшенным природою за негодностью; или же они имеют паразитический характер (глиста, вши, клопы) и, следовательно, лишены самостоятельного значения, будучи только болезненно-оживленными экскрементами других организмов, или, наконец, некрасивая форма принадлежит червеобразным личинкам насекомых, представляющим лишь переходную стадию в развитии целого животного, в окончательном же своем виде эти самые животные (бабочки, жуки и т.п.) не только освобождаются от отвратительной наружности червя, но некоторые из них даже служат весьма яркими образчиками красоты в природе. И (по общему правилу) только в этом своем, более красивом, окрыленном виде насекомое получает способность спариваться и размножаться, т.е. увековечивать свой вид. Если бы спаривались и размножались личинки, то они увековечивали бы эту безобразную животную форму как окончательную. Но природа неравнодушна к красоте. Она допускает безобразные формы в качестве переходных стадий, но для увековечивания своих произведений старается сообщить им возможную в каждом роде красоту. – Правда, помимо паразитов и червеобразных личинок существуют другие некрасивые формы и даже в высших классах животного царства, наприм., свиньи. Но дикий кабан, или вепрь, нисколько не отвратителен, он даже не лишен своего рода красоты – отвратительна только домашняя откормленная свинка. Но тут уже мы имеем дело с злоупотреблением человека, а не с произведением природы. Вообще же если красота в природе (как мы это утверждаем) есть реально-объективное произведение сложного и постепенного космогонического процесса, то существование безобразных явлений вполне понятно и необходимо. Самые отвратительные формы животного царства послужили и еще послужат нам для подтверждения и иллюстрации наших мыслей. – После этих пояснений мы можем перейти к эстетическому обзору органического мира.
VII
В растительном царстве светлое эфирное начало уже не только озаряет косное вещество и не только возбуждает в нем порывистое преходящее движение (как в явлениях стихийной красоты), но и внутренно движет его, поднимает его изнутри, постоянным образом преодолевая силу тяжести. В растении свет и материя вступают в прочное, неразрывное сочетание, впервые проникают друг друга, становятся одною неделимою жизнью, и эта жизнь поднимает кверху земную стихию, заставляет ее тянуться к небу и солнцу. Между косностью минералов и произвольным движением животных это незаметное внутреннее движение вверх, или рост, составляет характеризующее свойство растений, которые от него имеют и свое название. Поскольку здесь светлая форма и темное вещество впервые органически нераздельно сливаются в одно целое, растение есть первое действительное и живое воплощение небесного начала на земле, первое действительное преображение земной стихии. Два космогонические начала, которые в явлениях неорганического мира лишь поверхностно соприкасаются и извне возбуждают друг друга, здесь действительно соединяются и порождают одну неделимо-двойственную небесно-земную сущность растений.
Как будто чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне –
И землю чувствуют родную,
И в небо просятся оне.
Фетxx
В растительном царстве жизнь выражается преимущественно в объективном направлении в произведении прекрасных органических форм. В этом первом живом порождении небесных и земных сил внутренняя жизнь еще слабо обособилась: это есть безмолвно преображенная и тихо приподнявшаяся к небу земля. Материальное начало, возведенное на новую степень бытия, на степень живого существа, не успело еще развить соответственной внутренней интенсивности, оно как бы замерло в общем чувстве своего просветления. Из двух неразделенных, но тем не менее различных сторон органической жизни в растительном мире решительно преобладают стороны организации над стороною жизни. Растение хотя и живет, но оно есть более организованное тело, нежели живое существо: в нем видимые формы значительнее внутренних состояний. Эти последние существуют, но в слабой степени – душа растений, как уже давно замечено, есть грезящая душа. Поэтому и главный способ для выражения внутренних субъективных состояний – голос – вполне отсутствует у всех растений; зато красотою видимых форм они наделены гораздо равномернее, нежели животные, и, вообще говоря, превосходят их в этом отношении. Для растений зрительная красота есть настоящая достигнутая цель; поэтому органы размножения (цветы), которыми в наиболее значительной части растительного царства увековечивается данный вид, представляют вместе с тем и наибольшее развитие растительной красоты в ее специфическом характере: наивной, спокойной, дремлющей.
Так как в растительном мире главное дело не в содержании внутреннем, не в интенсивности и полноте субъективной жизни, а в законченном внешнем выражении хотя бы и простого сравнительно содержания, то естественное различие между высшими и низшими растениями определяется соответственно степени их видимого совершенства или красоты, т.е. эстетический критерий совпадает здесь, вообще говоря, с естественнонаучным, чего, как сейчас увидим, вовсе не замечается в царстве животных. Два главные отдела растительного мира характеризуются присутствием или отсутствием цветка, т.е. того сложного органа, в котором преимущественно сосредоточивается растительная красота. Снабженные цветами и потому, вообще говоря, более красивые растения составляют высший отдел явнобрачных, а лишенные цветов и в общем не отличающиеся красотою растения принадлежат к низшему отделу тайнобрачных. И между этими последними самые низшие по структуре: водоросли, мхи – суть и наименее красивые, тогда как сравнительно более сложные или высшие: папоротники – обладают и большею степенью красоты. Совершенно не то видим мы у животных. Хотя они также разделяются на два главные отдела: низший – беспозвоночных – и высший – позвоночных животных, но тут уже никак нельзя сказать, чтобы высшие были вообще красивее низших; эстетический и зоологический критерий здесь уже вовсе не совпадают. К числу беспозвоночных, следовательно, к низшему из двух главных отделов животного царства относятся одни из самых красивых зоологических форм – бабочки, которые несомненно превосходят красотою большую часть высших животных. А между этими последними, т.е. в отделе позвоночных, степень зоологического развития, вообще говоря, вовсе не соответствует степени красоты. Самый низший из четырех классов – рыбы – весьма богат красивыми формами, тогда как в самом высшем – млекопитающих – видное место занимают такие неэстетические твари, как бегемоты, носороги, киты. Самые красивые и вместе с тем самые музыкальные позвоночные животные принадлежат к среднему классу – птиц, а не к высшему, да и в сем последнем (у млекопитающих) отряд, представляющий наивысшую степень зоологического развития, – четырерукие (обезьяны) – есть вместе с тем и самый безобразный. Очевидно, в животном царстве красота еще не есть достигнутая цель, органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также, и главным образом, как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока наконец эти проявления не уравновешиваются и не входят в меру человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшею видимою формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и растительной красоты.
Но если мир животных представляет (сравнительно с растениями) менее пищи для непосредственного эстетического созерцания, то для философии красоты животное царство содержит особенно много любопытных и поучительных данных, разработкою которых мы обязаны, конечно, не эстетике по профессии, а естествоиспытателям, и во главе их великому Дарвину, в его сочинении о половом подборе. Хотя его цель здесь была в том, чтобы подтвердить и дополнить теорию происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование (предмет посторонний для нашего теперешнего рассуждения), но этим не исчерпывается значение собранных в этой книге наблюдений и указаний (как принадлежащих самому Дарвину, так и чужих). Многие из них интересны и важны для нас потому, что доказывают объективную реальность красоты в природе независимо от субъективных человеческих вкусов.
VIII
На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым существенным углублением и осложнением природного существования открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах, но еще только возможность: мы знаем, что усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно: возведенная на высшую степень бытия и этим внутренно усиленная, стихийная основа вселенной – слепая природная воля – получает зараз и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному началу космоса – которое в таком случае и воплощает в ней новую, более совершенную форму красоты, – и вместе с тем в хаотической стихии на этой высшей степени бытия усиливается и противоположная способность сопротивления идеальному началу с возможностью притом осуществлять это сопротивление на более сложном и значительном материале. Красота живых (органических) существ выше, но вместе с тем и реже красоты неодушевленной природы; мы знаем, что и положительное безобразие начинается только там, где начинается жизнь. Пассивная жизнь растений представляет еще мало сопротивления идеальному началу, которое и воплощается здесь в красоте чистых и ясных, но малосодержательных форм. Окаменевшее в минеральном и дремлющее в растительном царстве хаотическое начало впервые пробуждается в душе и жизни животных к деятельному самоутверждению и противупоставляет свою внутреннюю ненасытность объективной идее совершенного организма. На кого-то из немецких философов животные производили впечатление сомнамбулов; кажется, правильнее было бы сравнить их с помешанными и маньяками: далее мы увидим примеры мономаний, которыми одержимы целые роды и отделы животных. Как бы то ни было, и в общей палеонтологической истории развития целого животного царства, и в индивидуальной эмбриологической истории каждого животного организма ясно отпечатлелось упорное сопротивление оживотворенного хаоса высшим органическим формам, от века намеченным в уме всемирного художника, который для достижения прочных побед должен все более и более суживать поле битвы. И каждая новая победа его открывает возможность нового поражения: на каждой достигнутой высшей степени организации и красоты являются и более сильные уклонения, более глубокое безобразие как высшее потенцированное проявление того первоначального безобразия, которое лежит в основе и жизни, и всего космического бытия.
Если с появлением органического вещества, оживленной протоплазмы в виде простейших, большею частью микроскопических животных и растений создается почва для новых, более прочных и значительных воплощений мировой идеи в реальных формах красоты, то ясно, что сама по себе эта почва никакого положительного отношения к красоте не имеет. Безобразие мировой основы заявляет здесь себя на новой ступени частью с материально-пассивной (женственной) стороны – в первичных растениях, частью с активно-хаотической (мужской) стороны – у первичных животных. Зачатки всего животного царства так же некрасивы, как и зачаток отдельного животного организма, хотя бы самого высшего. Первичные животные носят в зоологии характеристичное название безобразных или бесформенных – amorphozoa. И без всякого сомнения, это подвижное, копошащееся безобразие отвратительнее спокойной бесформенности первичных растений. Но разумеется, самая простота и мелкость этих животных протистов не позволяет им быть настоящим типом животного безобразия. Для этого одной простой бесформенности недостаточно, а нужна отвратительная форма. Такую положительно безобразную форму, служащую в более или менее открытом виде основою всех животных организаций, мы находим в черве.
Форма червя, как уже было выше замечено, есть прямое выражение, обнаженное воплощение двух основных животных инстинктов – полового и питательного – во всей их безмерной ненасытности. Всего яснее это в тех внутренностных червях, которые питаются всем своим существом, всею поверхностью своего тела чрез эндосмос (всасывание) и затем не представляют никаких органов, кроме половых, а эти последние своим сильным развитием и сложным строением являют поразительный контраст с крайним упрощением всей остальной организации. Таковы, например, acanthocephali, у которых, не говоря уже о совершенном отсутствии органов чувств, нет ни рта, ни кишки, ни anus’а и на таком дефективном фоне ярко выделяются, по выражению Клауса, «мощные половые органы»6. Этому непомерному анатомическому развитию половых органов соответствуют и некоторые чудовищные явления в самой половой жизни, во взаимных отношениях обоих полов. Так у Distomum haematobium (в отряде Trematodes distomide) самец, будучи хотя толще, но короче самки, носит эту последнюю всегда при себе в особом углублении своей брюшной стороны7. Противоположное и еще более чудовищное явление представляет trichosomum crassicauda (отр. Nematodes), у которого, по наблюдениям Лейкарта, очень малорослые самцы, по два или по три, а иногда по четыре и по пяти живут вместе внутри маточной полости самки. – В классе кольчатых червей безобразие основного типа смягчается несколько более сложною организацией, но и у них непомерное развитие и разнообразие половых органов (особенно в отряде oligochaetae8) не допускает идею жизни до гармонического воплощения. – Основной тип червя на более высокой ступени организации явно сохраняется и у моллюсков, которых Линней прямо относил к vermes, и не без основания. «С тех пор как организация и развитие этих животных стали более известны, оказывается, что они действительно имеют отношение к червям»9. Между прочим, «по форме, реснитчатым покровам и организации личинки моллюсков имеют много общего с трихофорой или Ловеновской личинкой, свойственной многим червям»10. Впрочем, с эстетической точки зрения у тех видов моллюсков, которые в своем развитии проходят через стадию личинок, вполне развившееся животное нисколько не превосходит свою личинку. – Не то видим мы у насекомых, у которых червеобразная основная форма (находящаяся, по новейшим научным мнениям, в генетическом сродстве с кольчатыми червями)11 в своем обнаженном безобразии сохраняется только на стадии личинки, а в развившемся животном прячется под более или менее красивыми окрыленными покровами.
Основной червь, у насекомых прикрытый снаружи, вбирается внутрь у позвоночных животных: их чрево есть тот же червь не только в этимологическом, но и в зоогеническом смысле. Этот вобранный внутрь червь у некоторых позвоночных животных, принадлежащих к классам рыб и земноводных, опять получает такое преобладание, что сообщает свою форму всему телу животного. Таковы в особенности змеи, которые изо всех позвоночных животных суть самые похожие на червя, а потому и самые отвратительные. Нет надобности распространяться о том, что это возвращение к червеобразной наружности связано у этих животных и с внутренним уподоблением червю, т.е. с новым потенцированным самоутверждением злой жизни в ее кровожадном и сладострастном инстинкте.
Преобладание слепой и безмерной животности над идеей организма, т.е. внутреннего и наружного равновесия жизненных элементов, – это преобладание материи над формой, наглядно выражаемое в типической фигуре червя, есть лишь главная, основная причина безобразия в животном царстве. К ней присоединяются еще две другие, также общего характера. Мы знаем, что бесформенность, или неустойчивость, формы сама по себе есть нечто безразличное в эстетическом смысле (напр., бесформенные и бесцветные облака). Но когда в животном царстве бесформенность является на таких его ступенях, которые уже предполагают более или менее сложную и устойчивую организацию, то такое возвращение к элементарной протоплазме, будучи в прямом противоречии с данной органическою идеей, становится источником положительного безобразия. Например, улитки и другие слизняки, кроме того, что они еще довольно ясно сохраняют безобразный тип червя, отвратительны также и по своей первобытной бесформенности и мягкотелости, совершенно не соответствующей их сравнительно сложной внутренней организации. Та же причина – преобладание бесформенной массы – делает некрасивыми и таких высших животных, как киты и тюлени. Впрочем, поскольку это зависит здесь от чрезмерного накопления жира, следовательно, от излишнего питания, наша вторая причина зоологического безобразия (возвратная бесформенность) совпадает с первою (неистовость животного инстинкта). Это вполне ясно в случае тех домашних животных, которые становятся бесформенными и безобразными вследствие искусственного откармливания. Третья причина безобразия в животном царстве, и именно у некоторых высших (позвоночных) животных (лягушки, обезьяны), состоит в том, что они, оставаясь вполне животными, похожи на человека и представляют как бы карикатуру на него. Здесь нельзя видеть только одно субъективное впечатление, ибо помимо наглядного сравнения с человеком у этих животных замечается действительное анатомическое предварение (антиципация) высшей формы, которой не соответствуют остающиеся черты низшей организации, и это-то несоответствие, или дисгармония, и составляет объективную причину их безобразия.
Под указанные три формальные причины или категории: 1) непомерное развитие материальной животности, 2) возвращение к бесформенности и 3) карикатурное предварение высшей формы, – могут быть подведены все проявления животного безобразия в его бесчисленных конкретных видоизменениях и оттенках. Но и эти три причины в сущности могут быть сведены к одной, именно к сопротивлению, которое материальная основа жизни на разных ступенях зоогенического процесса оказывает организующей силе идеального космического начала. Теперь нам нужно рассмотреть, какими способами преодолевается это сопротивление и создается красота в животной природе.
IX
Чтобы в области той жизни, основная материя которой есть бесформенная слизь, а типический представитель – червь, воплотить идеальную красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать. До появления животной жизни земная материя уже послужила к воплощению двоякой красоты – минеральной и растительной. И вот мы видим, что и в животном царстве, прежде чем внутренно преодолеть активное сопротивление одушевленной материи и переродить ее в прекрасные формы высших животных организмов, космический зодчий пользуется зоологическим материалом для произведения новых видов прежней красоты, не имеющих специфически животного характера, а частию принадлежащих к области неорганической, частию же напоминающих растительные формы. И во-первых, некрасивые, более или менее червеобразные полипы создают целые леса прекрасных кораллов, которые по своему составу из неорганического вещества должны быть отнесены к числу минералов, а по видимой форме похожи на деревья и цветы. В меньших размерах то же стремление воспроизвести наружным образом минерально-растительную красоту на основе животной материи замечается в так называемых морских звездах, морских лилиях и т.п. Далее, безобразные моллюски, оставаясь при всей своей отвратительной бесформенности, порождают твердую неорганическую красоту многоцветных и многообразных раковин, и, наконец, одно из этих животных выделяет драгоценный жемчуг.
Здесь у моллюсков, так же как у полипов, животная жизнь производит красоту лишь как наружное неорганическое отложение и облекается в нее чисто внешним образом как в свое жилище, а не в собственную свою форму. То же до известной степени можно сказать и о роговых отложениях у некоторых высших животных, каковые черепахи; последнее проявление этого рода животного зодчества мы находим в классе млекопитающих у так называемого броненосца, где оно, впрочем, теряет свое эстетическое значение.
Другое, менее поверхностное отношение между красивым облачением и производящим его для себя животным мы находим у окрыленных насекомых. Вместо неорганических построек, каковы кораллы для полипа или раковины для моллюска, крылья бабочек или жуков суть нераздельные органические придатки к их телу, к которому они относятся приблизительно так же, как цветы к растению. Подобно тому как в цветке (явнобрачные) растения имеют свои половые органы, точно так же и эти насекомые только в окрыленной своей стадии достигают половой зрелости и спариваются между собою. – Как по органическому составу и сложному строению самих крыльев, так и по их определенному и тесному морфологическому отношению к остальному телу насекомого мы должны признать здесь эстетическое действие образующего идеального начала на животную материю существенно более глубоким и важным, нежели каково оно в неорганических и внешних для самого животного тела раковинах и кораллах. Однако и самая красивая бабочка есть не более как окрыленный червь. Если здесь дуализм между прекрасной формой и безобразием животной материи и не выражается во всей своей силе в виде двух отдельных и разнородных тел, как в моллюске и его раковине, то все-таки эта двойственность не побеждена здесь даже видимым образом, поскольку прекрасные крылья и червеобразное туловище составляют две резко выделяющиеся, хотя и органически сросшиеся половины в теле насекомого.
Эта двойственность прекрасной формы и безобразной материи преодолевается наконец в пользу первой, по крайней мере в наружном виде, у позвоночных животных, которые, вбирая в себя своего червя (или свое чрево), делают его совсем незаметным, и вместе с тем вся поверхность их тела тесно облекается более или менее красивым покровом (чешуя, перья, шерсть и мех). В тех случаях, когда такие покровы у позвоночных животных отсутствуют, как, например, у лягушек, эта обнаженность есть одна из причин их безобразия (сверх той, которая указана выше).
Космический художник знает, что основа животного тела безобразна, и старается всячески прикрыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы уничтожить или устранить безобразие, а в том, чтобы оно само сначала облеклось красотою, а потом и превратилось в красоту. Поэтому он тайными внушениями, которые мы называем инстинктом, побуждает самих животных из собственной их плоти и крови создавать всякие красивые оболочки: он заставляет слизняка залезать в им самим устроенную и причудливо разукрашенную раковину, которая для своего утилитарного назначения (предполагая таковое) вовсе не нуждалась в этом красивом виде; он понуждает отвратительную гусеницу надеть на себя выращенные ею самою пестрые крылья, а рыб, птиц и зверей – совсем зашить себя в блестящую чешую, разноцветные перья, гладкую шерсть или пушистый мех.
Но высшие животные – птицы и еще более некоторые млекопитающие (семейство кошачьих, также олени, серны, лани и т.д.) – помимо красивых наружных покровов представляют и во всем своем телесном виде прекрасное воплощение идеи жизни – стройной силы, гармонического соотношения частей и свободной подвижности целого. Под это идеальное определение подходят все многочисленные типы и оттенки животной красоты, перечисление и описание которых не входит в нашу задачу. Это есть дело описательной зоологии. Также должны мы оставить в стороне и вопрос о том, какими путями образующая сила мирового художника доводила природу до создания прекрасных животных форм: этот вопрос может быть разрешаем только метафизическою космогонией. Наше эстетическое рассуждение о красоте в природе мы можем закончить указанием тех явлений, которые, как выше замечено, эмпирически подтверждают объективный характер этой красоты.
X
Явления полового подбора, наблюдавшиеся Дарвином и другими естествоиспытателями, совершенно недостаточны для объяснения красоты всех животных форм: они относятся почти исключительно лишь к наружным украшениям, или орнаментальной красоте, у различных животных. Но здесь дело не в собственной важности объясняемых явлений, а в несомненном доказательстве самостоятельного объективного значения эстетического мотива хотя бы в самых поверхностных его выражениях.
В то время как многие прямолинейные умы старались свести к утилитарным основам человеческую эстетику в интересах позитивно-научного мировоззрения, величайший в нашем веке представитель этого самого мировоззрения показал независимость эстетического мотива от утилитарных целей даже в животном царстве и чрез это впервые положительно обосновал истинно идеальную эстетику. Этой неотъемлемой заслуги достаточно было бы, чтобы обессмертить имя Дарвина, если бы он даже не был автором теории происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование, – теории, точно определившей и подробно проследившей один из важнейших материальных факторов мирового процесса.
Жизнь животного определяется двумя главными интересами: поддерживать себя посредством питания и увековечивать свой вид посредством размножения. Эта последняя цель, разумеется, не существует в сознании самого животного, а достигается природою косвенно, чрез возбуждение полового влечения в разнополых особях. Но космический художник пользуется этим половым влечением не только для увековечивания, но и для украшения данных животных форм. Особи активного пола – самцы преследуют самку и вступают из-за нее в борьбу друг с другом; и вот оказывается, говорит Дарвин, вопреки всякому предвидению, что способность различным образом прельщать самку имеет в известных случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою12.
Это стремление прельщать обнаруживается у животных даже там, где его всего менее можно было бы ожидать. «Quiconque a eu l’occasion, – говорит Агассиц, – d’observer les amours des limaзons, ne saurait mettre en doute la sйduction dйployйe dans les mouvements et les aiiures qui prйparent et accomplissent le double embrassement de ces hermaphrodites»13xxi. В чем, собственно, состоит здесь взаимное прельщение и служит ли оно к какому-нибудь украшению этих слизняков, ни Агассиц, ни Дарвин не объясняют. Но если действительно улитки пленяют друг друга своими аллюрами, то другие, более зрячие моллюски еще легче могут оказывать подобное действие красотою своих раковин. Дело яснее у ракообразных (crustecea) и у пауков. Здесь самцы некоторых видов приобретают во время половой зрелости яркую и разнообразную окраску, какой не имели прежде и какая отсутствует у самок14.
«Всякий путешествовавший в тропических лесах бывал поражен звоном, который производят цикады самцы. Самки же безмолвствуют, как уже и греческий поэт Ксенарх заметил: «В счастье живут цикады: у всех у них жены безгласны»15. Фриц Мюллер пишет Дарвину из Южной Бразилии, что он часто присутствовал при музыкальном состязании между двумя или тремя самцами цикады, имевшими особенно звонкий голос и сидевшими на значительном расстоянии друг ох друга. Как только один кончал свою песню, так сейчас же начинал другой, и таким образом они все время чередовались между собою. Так как здесь, справедливо замечает Дарвин, обнаруживается столько соперничества между самцами, то весьма вероятно, что самки не только распознают их по издаваемым ими звукам, но что они, подобно птичьим самкам, прельщаются или возбуждаются тем из самцов, который обладает самым привлекательным голосом16.
У насекомых, принадлежащих к отряду Neuroptera, замечается не только особенное окрашение крыльев у самцов перед спариванием, но наблюдалось у разных видов предпочтение того или другого цвета17. Этот последний факт важен, потому что показывает восприимчивость этих насекомых к зрительным впечатлениям как таковым независимо от какого-нибудь их утилитарного значения, которого в данном случае невозможно указать. Такую же эстетическую восприимчивость следует приписать жукам (Coleoptera), у которых крылья не только окрашены блестящими металлическими красками, но часто и разрисованы полосками, кружками, крестиками и другими изящными узорами, – и все это только у зрячих видов, слепые же никогда не имеют разукрашенных или разрисованных крыльев18. В этом же отряде насекомых у некоторых видов самцы отличаются огромными и весьма изменчивыми и причудливыми рогами, которые, как доказывает Дарвин, несомненно имеют характер украшения для прельщения самок19. Тому же назначению служат и особые органы для произведения звука, замечаемые у некоторых видов20.
В отряде Lepidoptera (бабочки) красота их крыльев, которую у некоторых тропических видов21, по выражению Дарвина, невозможно описать словами, представляет тот же самый характер, ибо несомненно, что именно самцы преимущественно отличаются и блестящею красотою и разнообразием своих крыльев, тогда как самки сравнительно бесцветны и монотонны. Это уже одно показывает, что красота крыльев не может служить утилитарным целям защиты в борьбе за существование (чрез уподобление насекомого цветку, на котором оно сидит, и т.п.), ибо в такой защите самки нуждаются никак не менее самцов. Впрочем, есть факты, прямо показывающие, что утилитарная цель здесь сама по себе, а эстетически-половая сама по себе. А именно у многих видов замечается, что нижняя поверхность крыльев, т.е. та, которая обращена наружу в сидячем, наиболее опасном положении, окрашена совершенно под цвет тем растениям, на которых бабочка садится (явно ради защиты), тогда как верхняя поверхность, которую порхающий самец показывает самке во время ухаживания, раскрашена и разрисована с таким причудливым изяществом, которое не может иметь никакого отношения к целям защиты22. Читатель может найти у самого Дарвина еще много других частных доказательств, оставляющих, вне сомнения, преобладающее здесь действие чисто эстетического фактора23.
Неравнодушны к красоте и рыбы. Этим только объясняется, что у многих видов этого класса самцы (вообще более красивые, чем самки) развивают во время спаривания особую красоту цветов и форм24. Сверх того, вопреки общему мнению о немоте рыб некоторые виды (напр., Umbrina) обнаруживают несомненные музыкальные способности и трубят весьма громко и благозвучно – опять-таки только самцы и только в эпоху спаривания25.
Самцы тритонов пленяют своих подруг красивыми гребнями, а у лягушек только самцы же и лишь во время ухаживания дают свои концерты, которые у некоторых американских пород отличаются истинною музыкальностью и доставляют эстетическое наслаждение не одному лягушечьему, а также и человеческому уху26. В одном роде ящериц (Sitana) горло самцов снабжено большим, ярко окрашенным (во время спаривания) кожаным придатком, который они распускают, как веер, перед самками27. Наиболее эстетический (и в зрительном и в звуковом отношении) класс птиц представляет великое обилие фактов, доказывающих самостоятельное значение красоты для этих животных. Почти все они основывают свои брачные успехи на обнаружении того или другого эстетического свойства, причем замечается, что блестящая окраска и способность к благозвучному пению обыкновенно не совпадают, но слабость одного из этих преимуществ возмещается развитием другого28. Всего любопытнее у птиц то, что они явно сознательно относятся к своей красоте и тщеславятся ею не только перед самками, но и перед посторонними наблюдателями. Сам Дарвин нередко видел, как павлин щеголял своим убором не только перед курами, но и перед свиньями. Все естествоиспытатели, внимательно наблюдавшие птиц как в состоянии природы, так и в неволе, единогласно утверждают, что самцы находят удовольствие в том, чтобы выставлять напоказ свою красоту29. У многих видов сложные украшения самцов не только не могут иметь никакого утилитарного значения, но прямо вредны, ибо развиваются в ущерб их удобоподвижности – мешают им летать или бегать, выдают их головою преследующему врагу; но, очевидно, для них красота дороже самой жизни30. Чисто созерцательная восприимчивость некоторых птиц к красоте цветов доказывается тем, что они обращают внимание и любуются яркими цветами не на себе подобных только, а где бы их ни встретили, напр. на дамских платьях или шляпах31. Старательное украшение гнезд некоторыми птицами, например колибри, которые отделывают их с самым тонким вкусом, также несомненно доказывает у птиц присутствие объективно-эстетического чувства32. Иногда это чувство даже заставляет их впадать в предосудительные крайности. Так, самка южноафриканского вида Chera progne покидает самца, если он случайно потерял длинные хвостовые перья, которыми он украшается в эпоху спариванья. Подобное же легкомыслие наблюдал д-р Иегер в Вене у серебряных фазанов33.
Достаточно будет для нас этих немногих указаний из массы однородных фактов, собранных Дарвином. Смысл этих фактов столь же прост, сколько значителен. Человек находит известные явления в природе красивыми, они доставляют ему эстетическое наслаждение; большинство философов и ученых уверены, что это есть лишь факт субъективного человеческого сознания, что в самой природе нет красоты, так же как в ней нет добра и правды. Но вот оказывается, что те самые сочетания форм, цветов и звуков, которые нравятся в природе человеку, нравятся также и самим существам природы – животным всевозможных типов и классов, нравятся им так сильно, имеют для них столь важное значение, что поддержание и развитие этих бесполезных, а иногда и вредных (в утилитарном смысле) особенностей ложится в основу их видового существования. Мы уже никак не можем сказать, что крылья тропической бабочки или павлиний хвост красивы только по нашей субъективной оценке, ибо точно так же ценят их красоту самки бабочки и павлины. Но в таком случае необходимо идти дальше. Ибо, допустивши, что павлиний хвост красив объективно, настаивать на том, что красота радуги или алмаза имеет лишь субъективно-человеческий характер, было бы верхом нелепости. Разумеется, если в данном частном случае вовсе нет никакого чувствующего субъекта, то нет и ощущения красоты; но дело не в ощущении, а в свойстве предмета, способного производить однородные ощущения в самых различных субъектах. Если же вообще красота в природе объективна, то она должна иметь и некоторое общее онтологическое основание, должна быть – на разных ступенях и в разных видах – чувственным воплощением одной абсолютно объективной всеединой идеи.
Космический ум в явном противоборстве с первобытным хаосом и в тайном соглашении с раздираемою этим хаосом мировою душою или природою, которая все более и более поддается мысленным внушениям зиждительного начала, творит в ней и чрез нее сложное и великолепное тело нашей вселенной. Творение это есть процесс, имеющий две тесно между собою связанные цели, общую и особенную. Общая есть воплощение реальной идеи, т.е. света и жизни, в различных формах природной красоты; особенная же цель есть создание человека, т.е. той формы, которая вместе с наибольшею телесною красотою представляет и высшее внутреннее потенцирование света и жизни, называемое самосознанием. Уже в мире животных, как мы сейчас видели, общая космическая цель достигается при их собственном участии и содействии чрез возбуждение в них известных внутренних стремлений и чувств. Природа не устрояет и не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать себя. Наконец, человек уже не только участвует в действии космических начал, но способен знать цель этого действия и, следовательно, трудиться над ее достижением осмысленно и свободно. Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так красота в искусстве относится к природной красоте.
1 См. «Физиологическое объяснение некоторых элементов чувства красоты. Психофизиологический этюд» Л.Е.Оболенского. [СПб.], 1878 г. Более притязательно, но зато и менее основательно сочинение г. Вл.Велямовича «Психофизиологические основания эстетики. Сущность искусства, его социальное значение и отношение к науке и нравственности (Новый опыт философии искусств)». Часть первая и вторая. [СПб.], 1878 г. Как единственный в русской литературе опыт систематической эстетики, эта книга заслуживает упоминания, но, впрочем, не нуждается в критике.
2 В сущности над этим воззрением не возвысился, несмотря на свой «трансцендентальный реализм», и Эд.Гартман в своей недавно вышедшей объемистой и многословной «Эстетике» (Ср. Hartmann E. von. System der Philosophie im Grundriss. Bd. VIII. Leipzig, 1909. – Ред.)
3 Известно различие, которое немецкая эстетика (особенно со времен Канта) полагает между прекрасным и возвышенным (erhabenes) (См.: Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963 – 1966. Т. 5. С. 249 – 252. – Ред.), причем звездное небо относится к этой последней эстетической категории. Нам кажется, что здесь известный оттенок прекрасного возведен без достаточного основания на степень независимой категории, противупоставляемой прекрасному вообще. Впрочем, нельзя приписывать важного значения этому терминологическому вопросу, а во всяком случае на русском языке мы имеем полное право говорить о красоте звездного неба.
4 Примечание для читатетлей, беспечных по части логики: из того, что все прекрасные звуки должны быть выражениями внутренней жизни, никак не следует, чтобы все звуковые выражения внутренней жизни были прекрасны.
5 См. пояснение этого указания с богословской (библейской) точки зрения в моей книге «La Russie et l’Eglise Universelle», 2-me йd. Paris, p. 248 – 252 («Россия и Вселенская церковь» (рус. изд.: М., 1911). – Ред.)
6 Claus: «Зоология» (русск. перев.: Одесса, 1888), том I, стр. 345.
7 Claus: «Зоология» (русск. перев.: Одесса, 1888), том I, стр. 315.
8 Claus: «Зоология» (русск. перев.: Одесса, 1888), том I, стр. 367.
9 Claus: «Зоология», том II, стр. 1.
10 Claus: «Зоология», том II, стр. 6.
11 Claus: «Зоология», том II, стр. 533.
12 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 246 – 7.
13 Agassiz. «De l’Espиce et de la Classification», 1869, p. 106.
14 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 301 – 3.
15 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 313.
16 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 314.
17 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 323 – 4.
18 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 327.
19 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 331.
20 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 340 – 341.
21 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 345.
22 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 349.
23 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том I, стр. 350, 354 – 7, 359, 362 – 364, 375, 376.
24Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 6, 7, 11, 12, 13.
25 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 19, 20.
26 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 23.
27Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 27.
28 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 48.
29 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 74, 76, 77, 78.
30Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 83.
31 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 96.
32 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 97.
33 Дарвин. «Происх[ождение] челов[ека] и полов[ой] подбор». Немецк. перевод Виктора Каруса. Штуттгарт, 1871. Том II, стр. 105.
i Из слов князя Мышкина в «Идиоте» Ф.М.Достоевского.
ii катарсис (греч.) (Аристотель. Поэтика 1449 b 27).
iii См., напр.: Государство 386b – 387d, 398b – 403c, 411d.
iv Стихотворение И.Гёте «Trost in Trдmen» («Утешение в слезах»). «Звезд желать нельзя, можно радоваться их красоте» (нем.). Ср.:
Небесных звезд желать нельзя
Их вечный свет ничей.
(Пер. М.Лозинского).
v Имеется в виду учение А.Шопенгауэра и Э.Гартмана.
vi Сварог – древнеславянское божество, покровитель небесного огня; Варуна – величайший (наряду с Индрой) из богов в ведической религии. В «Ведах» – создатель и хранитель мира.
vii Стихотворение Ф.И.Тютчева «Молчит сомнительно Восток…» Впервые напечатано в «Русском Вестнике» (1865. Июль. Т. LVIII. С. 111). Вошло в книгу «Стихотворения» (М., 1868), которой, судя по разночтениям, и пользовался Вл.Соловьев при цитировании (в дальнейшем поэтому разночтения с современными изданиями не приводятся).
viii Строки из стихотворения А.А.Фета «Как здесь свежо под липою густой…» (1854).
ix Стихотворение Ф.И.Тютчева «Как неожиданно и ярко…».
x Стихотворение Вл.Соловьева «L’onda dal Mar’divisa» («Волна, разлученная с морем» (итал.)) (Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 74).
xi Стихотворение Ф.И.Тютчева «Как хорошо ты, о море ночное…».
xii Стихотворение Ф.И.Тютчева «Весенняя гроза».
xiii Стихотворение Ф.И.Тютчева «Не остывшая от зною…».
xiv Стихотворение Ф.И.Тютчева «Ночное небо так угрюмо…».
xv Стихотворение Ф.И.Тютчева «Ты, волна моя морская…».
xvi Стихотворение Ф.И.Тютчева «Конь морской».
xvii Стихотворение Ф.И.Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной…».
xviii первоматерия (лат.).
xix В данном случае – ископаемые животные.
xx Строки из стихотворения А.А.Фета «Заря прощается с землею» (1858).
xxi «Всякий, кому случалось наблюдать за любовными ухаживаниями улиток, не усомнится в обольстительности, проявляющейся в движениях и повадках, которыми подготовляется и завершается спаривание (букв. – спаренное объятие) этих гермафродитов» (фр.) (Агассис Ж.Л. О виде и классификации. Париж, 1869).